
В живой памяти у многих находятся те сетования, которые еще так недавно, всего несколько лет назад, высказывались со поводу религиозного состояния русского образованного класса, его свободомыслия и индифферентизма в религиозных делах. Теперь эти сожаления уменьшились и ослабели, так как, говорят, в обществе повеял иной дух, дух религиозности и церковности. Положим, что это наблюдение верно. Но кто знает, долго ли продержится такое настроение русского общества при существовании в нем и иных течений мысли и при известной слабости нашей к новым и модным теориям, выдаваемым за последнее слово науки? Кто может сказать, что не явится какая-нибудь мнимо научная и более или менее неблагоприятная для религии теория, которая овладеет умами восприимчивых к новизне соотечественников, – что не явится у нас направление мысли, враждебное религиозности, даже отрицающее самое бытие Высочайшего Существа, которое устрояет судьбы мира? На протяжении веков, которыми считается жизнь человечества, не мало было подобных переходов от веры к сомнению и даже полному неверию, и наоборот, – не мало насчитывается примеров того, как идеи скептицизма и свободомыслия в делах веры, которая казались исчезнувшими, но никогда в сущности не умирали в сознания человечества, опять и иногда даже с новой силой овладевали умами. Всегда были в мире люди верующие, люди, которые тем или другим путем приходили к убеждению, что человек сам по себе есть или ничто или, по крайней мере, весьма слабое и ограниченное существо в системе мироздания и что существует Некто, высший человека и мира; но всегда были и будут люди, сомневающиеся в бытии этого Высшего существа и даже прямо отрицающие его.

Так было и во время, непосредственно предшествовавшее величайшему в жизни человечества событию – пришествию Христа Спасителя в мир; так, в частности, было и в языческом Риме около той поры, как на его восточной окраине явилась новая, принесенная Сыном Божиим, вера. Всмотримся с этой стороны в состояние римского образованного общества, как оно отобразилось в представителях этого общества при Августе, и мы даже на той небольшой странице из истории религиозного скептицизма, какую представляет век Августа, увидим, как глубоко лежат корни сомнения в природе человеческого духа, как вообще мало можно полагаться на прочность религиозной настроенности человека и как преждевременно успокаиваться на мысли о том, что сделанного для возбуждения религиозности в обществе достаточно, особенно если эта настроенность, как бывает у нас и бывало в Риме, не выходит из внутренней потребности человека, не основывается на стремлениях его духовной природы и есть в сущности нечто случайное и поверхностное, вызванное такими внешними и случайным причинами, как благоприятные для религии веяния в правящих сферах; – мы убедимся историческими указаниями. как постоянно убеждаемся опытом жизни в том, что даже религиозные люди в образованной среде не чужды бывают скептического отношения к отечественной религии.

В Риме иначе, пожалуй, и не могло быть, при существовавших здесь около времени императора Августа условиях. В Риме образованный класс жил под весьма сильным влиянием философских учений, а эти учения в большей или меньшей степени возбуждали и должны были возбуждать скептическое отношение к разным в самой основе своей ложным религиозным представлениям, освященным государственной религией, хотя и не составлявшим предмет точно сформулированного вероучения, в нашем смысле этого слова, по отсутствию такого вероучения у римлян. При Августе наиболее распространены были в римском мире воззрения стоической и эпикурейской школ, вследствие практического направления этих школ; меньшим значением пользовались, но все же имели приверженцев академики; дальше, быть может, имели некоторое влияние перипатетики и пифагорейцы. Распространялись ли воззрения названных школ в чистом и беспримесном виде, или же, как то обыкновенно бывало у римлян, в соединении одни с другими, образуя системы синкретические и эклектические, во всяком случае или все или многие характерные черты воззрений философских школ удерживались и свое влияние на умы сохраняли. При этом с очевидностью обнаруживалось замечательное сходство разных философских школ во взглядах на некоторые религиозные вопросы и общее их скептическое отношение ко многим предметам традиционной государственной веры. Стоики своим учением о боге, тождественном с миром, подрывали веру в народных богов с их человекоподобным видом, превращая традиционных богов по большей части в простые обозначения божественных даров, высказываясь против мифологических преданий о богах и т. д.; они лишали государственную религию ее существенного содержания. Правда, стоицизм делал попытки мириться с существующим культом, оправдывая этот культ тем соображением, что божество господствует во всех частях природы и может быть названо, например, Церерой, когда управляет землею, или Нептуном, когда правит морем, и т. п. Но в сущности это примирение, как давно разъяснено, было призрачным: оно не уничтожало пропасти между философским умозрением и существовавшим в Риме культом, а только снаружи прикрывало ее. Аллегорическое истолкование мифов, обычное у стоиков, не могло спасти первоначальная содержания мифов, с которым народное сознание освоилось и сжилось. Вообще стоицизм в сущности уничтожал народную веру в богов; в лице же некоторых своих представителей он устранял даже молитвы к божеству, по причине господства в мире закона естественной необходимости. Оппозиция народной вере, а на первых порах не малая, с течением времени, по мере сближения стоицизма со скептической академией, увеличивалась больше и больше. Впрочем и то нужно сказать, что, сравнительно с другими распространенными в Риме философскими учениями, стоицизм все же держался ближе к народной религии и по крайней мере пытался разрешить столкновение между разумом и верой и оправдать научным образом народную религию. Эпикурейство, по существу своей доктрины, должно было находиться в несравненно большей оппозиции к народной религии. Против самого существования многих богов эпикурейцы не возражали, равно и против антропоморфизма; они – далее – вполне признавали их блаженство; но по своему понимая это блаженство, они говорили, что будучи блаженными, боги не должны и не могут иметь ни склонностей, ни отвращений, следовательно – не имеют никакого влияния, на течение дел в мире, который притом и возник и существует совершенно независимо от них, по своим естественным законам, и боги, их существование, не должны внушать людям ни страха, ни надежд. Небо, земля, растения, животные и сам человек – все произошло из вечного движения атомов; все, бывающее в природе и в жизни людей и народов, основывается на сочетании бесконечно малых частиц, движущихся в мировом пространстве. Такое учение было вполне пригодно для того, чтобы убить или по меньшей мере ослабить любовь к богам и вызвать равнодушие к ним, что действительно и случилось. При такого рода воззрениях всякое богослужение, всякая жертва и молитва, всякий обет являлись излишними. В связи с этим находилась решительная борьба эпикурейцев с тем, что они считали народным суеверием, в особенности отрицание ими искусства провещания гарусников, авгуров и других провидцев, признанных государственной религией. Новоакадеиаки, признававшие точное знание невозможным и допускавшие лишь вероятность знания, свой скептицизм простерли, конечно, и на предметы веры. Оттого, например, они подвергали сомнению искусство предвидения и провещания будущего, т.е. распространяли свое сомнение на предметы бесспорнейшие для религиозного чувства истого римлянина. Перипатетики находились в оппозиции народной вере по своему учение о единстве Божием и о бестелесности божества и по своим суждениям (правда, не общепринятым в их среде) относительно невозможности тех способов узнавания будущего, которые были приняты государственной религией. Пифагореицы должны были занять такое же положение относительно народной веры потому, что они считали мифологию в сущности только произведением поэтов, соблазнялись чувственным изображением божества и, наконец, отвергали кровавые жертвы, занимавшие столь важное место в государственном римском культе. В эклектизме, которого придерживалось большинство философски образованных римлян, также, кажется, преобладали скептические элементы. Наконец, и эвгемеризм, видевший в богах людей, хотя и выдающихся, и пересаженный на римскую почву еще Эннием, мог лишь отрицательно относиться к национальной вере римлян.

Влияние подобных воззрений так или иначе, в большей или меньшей степени, сказалось на всех главных писателях времени Августа, в чем легко убедиться при пересмотре этих писателей с указанной целью. Этого влияния не избегли даже такие люди, как историк Ливий.
Тита Ливия по всей справедливости можно назвать одним из религиознейших римлян той поры. Он, несомненно, глубоко верил в бытие Высшей Силы, которая править миром, судьбами народов и отдельных людей, верил в богов, которые находятся близ людей, определяют будущее, дают предзнаменования грядущего и т. д., и вменял человеку в обязанность сознавать свою слабость пред божеством, чтить его, обращать внимание на знамения его воли и всячески остерегаться в чем либо погрешить против него. Ливий видимо скорбит о существовании «учения, презирающего богов», как он выражается, и многократно сетует об исчезновении старинного благочестия. Не иначе, как с глубоким сожалением замечает он, что в его время появилось равнодушие к богам, вследствие которого люди перестали думать о владычестве богов в мире и о посылаемых ими знамениях, почему и найдено было излишним заявлять о продигиях? публично, кому следует, и сведения о них заносить в анналы. Вообще Ливий – человек верующий в римском смысле этого слова, видевший в народной религии могучую опору для римского государства, бывший недовольным склонностью римлян его времени к чужестранным культам и вообще «предпочтением всего нового и чужого старинному и отечественному», со скорбью наблюдавший, что небрежение о богах сделалось признаком его времени, стремившийся поддержать религиозные предания. Однако и вера Ливия носит уже некоторые особые черты. Он не напрасно изучал в свое время и, быть может, даже преподавал философию: эти занятия не прошли для него бесследно. Не сделавшись сторонником ни эпикурейской, ни новоакадемической философии в учении о богах, он, однако, не остался совершенно свободным от их влияния. Сомнение коснулось и Ливия, и выразилось оно в довольно определенных формах, свидетельствующих о том, что историк иногда но меньшей мере колебался между религиозными представлениями прежнего времени и между более свободными взглядами своего времени, что он к некоторым пунктам отечественной религии, но крайней мере по временам, относился критически и даже с иронией. Ливий, например верит в чудесные явления, о которых свидетельствовала старинная религия римлян, но верит далеко не безусловно и в этом отношении как бы двоится. Когда Ливий пишет о старине, то душа у него, по его собственным словам, каким-то непонятным для него образом, настраивается по-старинному, и какой-то религиозный страх не дозволяет ему в своих анналах обходить, как не стоящие внимания, те страшные предзнаменования, которые для древних составляли предмет общественной заботы, и которые побуждали государство умилостивлять разгневанных богов. Такого рода рассуждения Ливия дают возможность заключать, что историк, рассказывая о былом, всецело переносился в прежнее время И, касаясь продигий, думал и чувствовал так, как естественно было древним, простым и верующим людям; но отсюда же можно видеть и то, что его вера в продигии возникала в нем собственно под преходящим влиянием занятия стариной, и что эту веру выражал он, между прочим, по таким внешним побуждениям, как затруднительность для правдивого бытописателя старины не касаться в своем изложении того, что для предков представляло важность. Ливий заносит в свою летопись отчет о разных необычайных явлениях (этого он не мог не сделать, если хотел верно изобразить жизнь и интересы римлян прежнего времени); но при этом часто ведет он свою речь так, как будто совсем не рассчитывал своим описанием произвести на читателей нужное действие. Иногда, с полной по-видимому верой, рассказывает он о каком-нибудь чудесном событии, и вдруг делает замечание в совершенно ином, даже ироническом тоне. У него без труда можно заметить своего рода рационализм в суждениях о религиозных предметах. Упомянув о свирепствовавшей одно время повальной болезни в Риме и о бывших там молениях для примирения с богами, он замечает, что потом люди мало по малу начали поправляться, здороветь «или вследствие того, что был вымолен ими мир с богами, или потому, что уже миновало более неблагоприятное для здоровья время года». Это «или» характерно. В другой раз, сказавши о том, как известный Камилл после одной своей молитвы упал, Ливий замечает, что этот факт истолковывался после, в качестве предзнаменования, людьми, «которые гадают на основании случившегося» о том, что должно-де было произойти, – замечание, в котором ясно слышится ироническая нотка. Не наивной верой прошлого, а скептицизмом дышит и изложение Ливием предания о том, как латинский претор Л. Анний, в споре с римлянами из-за прав латинов, непочтительно отнесся к Юпитеру, которого римляне призывали в свидетели своих слов, и как был за то наказан. По преданию, как кажется, Анний поплатился за свою дерзость тем, что, при выходе из храма, где им допущена была эта дерзость, он скатился со ступеней, ведших в храм, и жестоко убился. Но мнению же Ливия, падение Анния объясняется тем, что он вышел из храма, где объяснялся с римскими сенаторами, и спускался с храмовых студеней в крайнем раздражении на сенаторов, отвергнувших его требование относительно прав латинов, шел при этом ускоренным шагом и – оступился. Дальше, по преданию, при переговорах между Аннием и сенатом, неприятных для римлян, и именно – когда боги призывались во свидетели нарушения союза, разразилась сильная буря. Ливий же на счет этого, но его словам, остается в нерешительности, полагая, что это, быть может, и верно, но быть может, и придумано для наглядного представления гнева богов. Когда историк рассказывает о сделанном Гемином Мэцием вызове сына консула Манлия на единоборство, то выражает мысль, что названный молодой римлянин принял вызов или под влиянием гнева, или стыдясь отказаться от поединка, или же под действием непреоборимой силы судьбы. И здесь это «или», которым действие рока, по его силе, приравнивается к влиянию легко проходящих душевных движений, тоже нечто значит. Передавая о трудном положении римского войска в одном случае, историк выражается о солдатах, что они , «просили у вождей помощи, которую едва ли могли бы дать в бои бессмертные». Говоря о храме близ города Кротона, славившемся.своими богатствами и своим значением в глазах окрестных народов он замечает, что при этом «некоторые чудеса вымышляют, как по большей часта бывает в столь знаменитых местах». Он вообще критически относится к так называемым чудесным явлениям. «В ту зиму – говорить он о зиме 536 (218) года, было в Риме или около города много чудесных явлений, или, – как это обыкновенно случается, когда умы погружаются в религиозность, – о многих таких продигиях было возвещено, и в них, не раздумывая, поверили». «Чем больше верили простые и религиозные люди в чудесные явления, тем о большем числе таких явлений появлялись известия». Выражая такого рода суждения, Ливий становился на скользкую почву.

С Ливием имеет некоторые общие черты Виргилий. Этот поэт настроен вообще религиозно; он чтит древние священные предания и установления, которые с таким глубоким, редким вниманием излагает и описывает в своих стихах. Однако противорелигиозный дух тогдашней философии слегка коснулся и его. Не даром в молодости Виргилий учился философии у известного в свое время эпикурейца Сирона, друга Цицерона: в более ранние годы своей жизни он знал и, кажется, почитал философию Эпикура, который «мог познать причины вещей и стал выше всех страхов, и неумолимого рока, и рева ненасытного Ахеронта», вследствие чего называл Эпикура счастливым, хотя, впрочем, тогда же называл счастливым и чтителя отечественных богов. Виргилий не был, конечно, в эту пору настоящим, чистым эпикурейцем; но он мог разделять некоторые положения философии Эпикура и несколько тяготеть к ней. Эта его склонность заметна отчасти уже из самого факта изложения им учения Эпикура по разным, как будто изыскиваемым им поводам, дальше – из его подражания Лукрецию, изложившему по латыни философию Эпикура. Подражает он знаменитому автору поэмы «О природе», по-видимому, в некоторых оборотах речи и в выражениях (если только не допустить, что иногда выражения, в которых усматривается подражание и даже заимствование, составляли ходячие обороты в латинской речи); также, кажется, подражает он Лукрецию и находится под его влиянием при изложении пунктов, имеющих существенно дидактическое значении. Виргилий, разумеется, особенно впоследствии, уклонялся от последних выводов эпикуреизма. Эпикурейское мировоззрение с своим учением о далеких от мира богах, со своим нравоучением, опиравшимся на скользкую почву гедонизма, со своей материалистической психологией и своим механическим учением о природе было не по душе поэту, который всегда более или менее стремился к удовлетворению религиозных потребностей сердца и к нравственно-духовной жизни, задумываясь о продолжении существования по смерти. Но влияния Эпикурова учения Виргилий, как сказано, все-таки не избег, и следы этого учения у него можно найти в его более ранних произведениях. В позднейшее время жизни поэт также был не безупречен в своих религиозных представлениях. В самом начале Георгик он признает Юлия Цезаря прямо в качестве бога, при чем остается в неизвестности лишь относительно того, в какой области мироздания будет действовать этот бог – на земле ли, на море ли, или на небе, – прием, который дает некоторым основание относиться с сомнением и к признанию Виргилием других богов в том же месте Георгик и который во всяком случае позволят думать, что и Виргилий жертвовал политике интересами религии и независимостью собственного убеждения. Затем в последней книге того же произведения он упоминает некоторые сказания о богах исключительно в качестве забавных или занятных историй, – прием рискованный. Эти приемы, удержал он и в позднейшем произведении своем – в Энеиде: и там боги и богини весьма нередко выводятся им в виде совершенно недостойном их божественного сана; и там поэт толкует о божественном достоинстве как Юлия Цезаря, с которым весьма тесно была связана судьба Октавиана Августа, так и самого Августа, т.е. опять – нужно думать – несколько кривить своей религиозной совестью. Все это объясняется, конечно, характером религиозного сознания поэта и все это могло явиться лишь на почве религиозного скептицизма.

Если с такими взглядами являются Ливий и Виргилий, люди вообще религиозные, всегда смотревшие на жизнь и на мир более или менее серьезно, то чего же можно ожидать от тех современников их, которые искали в жизни, прежде всего, удовольствий я часто возвращаться к мысли о божестве не имели на поводов, ни охоты? Типичным представителем такого рода людей был знаменитый венузийский поэт. В сущности, это – человек, который, как говорится, больше всего любил хорошо пожить. В этом стремлении – основная черта характера Горация, наблюдаемая, кажется, на протяжении почти всей его жизни и начавшая несколько исчезать лишь на склоне его дней. При таком стремлении, для религиозности подлинном и полном смысле слова в душе поэта уже не могло быть места. До богов ли было ему, когда он «жить» хотел! И что ему в сущности было за дело до всевышних; когда они ни дать человеку, ни отнять у него ничего не могут, как вероятно думал поэт, находясь под влиянием Эпикуровой философии, – или когда человек в себе самом носит причину своего счастья я несчастия, как должен был рассуждать Гораций под действием стоицизма. Если этот поэт, не смотря на такого рода стремления и взгляды, все-таки нередко говорил о богах в тоне старинного римлянина, то в этом следует видеть отчасти желание приноровиться к требованиям Августа, задумавшего религиозно-нравственные реформы в консервативном духе, отчасти влияние обычая, и также только отчасти результат самостоятельного размышления о религиозных вопросах под влиянием некоторых особенных событий в жизни самого поэта и под действием приближавшейся и отрезвлявшей его старости. Во всяком случае видимая но временам религиозность поэта всегда исходила из глубины его сердца, где часто витал религиозный скептицизм с сопутствовавшими ему равнодушием к богам и не надлежащим к ним отношением. Религиозные сомнения не обуревали Горация (он слишком дорожил своим покоем и благодушием, чтобы не в меру тревожиться из-за таких вещей, как религиозные вопросы), но все же эти сомнения в содержании духовной жизни Горация, бесспорно, занимали не последнее место. Так было, прежде всего, в ранние годы жизни поэта, когда он являлся, по-видимому, решительным сторонником Эникурова учения о богах, и когда он, например, дозволил себе вложить в уста бога Приана такого рода слова: «я – говорит Приан – был когда-то фиговым чурбаном, ни на что не пригодным куском дерева, когда столяр, не решавшийся сначала, сделать ли из меня скамью, или Приана, предпочел, чтобы я был богом. О того времени я – бог». Таким же отчасти являлся поэт и в дальнейшее время своей жизни. Неудивительно поэтому, что он, например, в одной из своих од, написанной им приблизительно уже в середине своей литературной деятельности, называет себя «умеренным и редким чтителем» – что он, около той же поры, не затруднялся приравнивать «божественнаго Августа» к Юпитеру, как бы оставляя за последним небо и предоставляя первому землю во владение, и говорить Юпитеру: «царствуй, имея Цезаря (Августа) вторым после себя», т. е. говорить нечто такое, чего истинно верующий в отечественных богов римлянин говорить не мог и не должен был.
Возьмем произведения знаменитых элегиков времени Августа, которыми в свое время зачитывались римляне. Что мы видим у них?
Тибулл – тип вообще религиозного римского поселянина. Он усвоил себе многие верования простых римлян, хотя бы эти верования, даже с точки зрения римской религии, были суевериями, – усердно и, кажется, искренно защищал существовавшие и признанные в Риме способы узнать будущее, утверждая, что Сибилла, с назначенными для нее квиндецемвирами, авгуры и гаруспики и указания жребиев в Пренесте заслуживают полного доверия и т, п., – ревностно чтил деревенских и иных богов и проч. Но, не будучи сам скептиком в религиозных делах, Тибулл некоторыми своими суждениями приготовлял в современниках почву для восприятия последними скептических воззрений, облегчал распространение и усвоение скептицизма римским обществом. Это было тем естественнее, что боги его, как и боги некоторых его современников, суть боги той религии поэтов, которую Варрон, вслед за Сцеволой, противопоставлял религии гражданской или народной, и о которой он отзывался так неодобрительно, находя в ней много недостойных вымыслов о богах. «Не бойся, – говорил Тибулл, – давать клятвы: ветры по землям и морям развевают ложные клятвы Венерины, как недействительные. Великое благодарение Юпитеру! Сам отец объявил не имеющим значения все, что безумная любовь, под влиянием страсти, с клятвою пообещает. Диана дозволяет безнаказанно клясться ее стрелами, Минерва – ее волосами». Говорит это – заметим – бог Приан, отвечая на один вопрос поэта. Покровительницею хитрости и обмана является, разумеется, и богиня Венера. «Великий Марс!» – обращается Тибулл к воинственному небожителю. «Для тебя в твои календы прекрасно убралась Сульпиция. Если у тебя есть вкус, сам сойди с неба посмотреть». Он выводит богиню Юнону как бы подкупаемою жертвами и тем опять поддерживает недостойные, хотя и допускаемый римскою религиею, представления о богах. Он представляет себя слишком хорошо знающим планы в мысли богов и не в меру легко даже для язычника относится к божественному гневу и вызывающим его действиям людей, в том числе даже к богохульству. Тон речи его о богах нередко крайне фамильярен. Намереваясь отправиться на войну в Аквитанию, Тибулл обратился к отеческим ларам с молитвой о благополучном для него исходе похода и сразу за тем обратился к тем же божествам с следующими словами: «не стыдитесь того, что вы сделаны из старого пня: такими же точно жили вы в доме моего древнего предка». Побуждая одного друга, в день его рождения, попросить своего гения о всем нужном и желательном и выразив догадку касательно содержания этой просьбы, Тибулл дал при этом понять, что, вследствие многократного повторения этой просьбы, боги выучили ее наизусть и наперед знают, что именно с этой мольбой обратится к ним друг Тибулла. Фамильярность в отношении к богам обнаруживается, далее, между прочим, в наименовании богов жестокими и в такого рода обращения к одному из них: «к чему эта твоя жестокость в отношении ко мне? Ужели велика слава для бога – подстроить западню человеку?». Вообще в представлениях и выражениях Тибулла о богах есть не мало частностей сомнительных и соблазнительных даже с точки зрения религии римской. Возвыситься же над представлениями этой религии Тибулл видимо не мог. Его, кажется, нисколько и не занимали вопросы о том, не следует ли представлять божество существом, которое обладает более возвышенными стремлениями, чем те, какие предполагаются в нем римлянами, – нет ли противоречия в обычных воззрениях на божество, как существо, которое стоит то как будто выше человека с его мелкими нередко и низменными интересами, то на одном уровне с человеком, – можно ли, оставаясь действительно религиозным человеком, возносить молитвы к божеству и спустя недолго или даже вслед за этим относиться к божеству, как к равному, и т. п.

Замеченное у Тибулла наблюдается и у Проперция, только в значительно большей степени. «Бог Цезарь замышляет поднять оружие на богатых Индов»; «пока жив Цезарь, едва ли стал бы Рим бояться (и самого) Юпитера»; «когда я воспеваю Цезаря, ты, Юпитер, пожалуйста внимай мне»; «и увидели мы, как полились слезы у бога»; – все это говорил Проперций об Августе, упуская из виду, что подобные выражения о живом человеке, хотя бы и облеченном в сан императора, не дозволяются духом римской национальной религии, и что если они, вместе с самым фактом апофеозы, быть может, и не казались особенно странными даже и служителям государственной религии или так называемым жрецам, то лишь вследствие раболепия и особенного усердия этих представителей религии к интересам государственной власти. В суждениях о богах Проперций ни сколько не стесняется тем, что боги не люди. По одному поводу он замечает, что «не мог бы стерпеть даже соперничества Юпитера», в другой раз говорит, что Юпитер некоторыми своими действиями , бесславит и себя и свой дом. Он часто, в тоне совершенно свободном и с видимым удовольствием, говорит об их так называемых furta, в качестве певца нежного чувства явно старается отыскать у них симпатичные для себя черты и выразить возможно нагляднее. Он не стесняется не только кратко упоминать, но даже распространяться о зазорных в нравственном отношении действиях языческих божеств, при чем живописует эти поступки и приводит такие подробности, одно упоминание которых в речи о богах по меньшей мере неуместно; вместе с тем он находит возможным утверждать, что несмотря на случавшиеся прегрешения богов и богинь, они пользовались на небе почетом, ничуть не меньшим, чем прежде. Он поддерживает недостойные представления о богах и ведет крайне непригожие, речи о них, когда, например, замечает, что и сам бог Юпитер плакал, когда был обманут, или когда, перебирая возможные причины болезни одной красавицы, обращаясь к последней, говорил: «не оскорбилась ли Венера сопоставлением и сравнением тебя с нею? Богиня и сама и по себе завистлива относительно красавиц… Или ты осмелилась говорить, что глаза Паллады не хороши». Боги у Проперция хвастаются точь-в-точь так же и в таком тоне, как и некоторые из смертных. «Моя натура, говорит бог Вертумн у Проперция, идет ко всем формам: придай мне вид, какой хочешь, – я буду пригож. Одень меня в косские ткани, и я буду любезной девицей; когда надену я тогу, кто скажет, что я – не мужчина?» и т. д. Характерно и то, что Проперций называет одного из богов бесстыдником, будучи однако при этом, как и в других случаях, далек от мысли о несоответствии деятельности этих богов с идеею божества, как существа высшего; он выставляет Аврору именовать богов несправедливыми и влагает в уста упомянутого уже Вертумна речь о том, что он, был некогда самым обыкновенным кленовым чурбаком, который был лишь наскоро обтесан ножом, и оставался таковым до тех пор, пока некто Мамурий, уже при царе Нуме, сделал изображение его из меди, за что бог и выражает художнику свою признательность. Величие и могущество богов для Проперция иногда совсем не существует, – он не склоняется даже пред Юпитером. Он говорить например, что если Цинтия будет расположена к примирению, то он «может тогда вынести недружелюбие (самого) Юпитера». Мало того: одно время он был склонен поставить разум на место Юпитера, и к помощи разума прибегать вместо Юпитера, когда говорил: «Здравый Смысл, если только ты – божество! Отдаюсь, как дар, в твое святилище: мои мольбы, как ни много было их, не дошли до глухого Юпитера». Правда, подобные воззрения каким-то образом уживались у поэта с воззрениями, по-видимому, чисто консервативными, которые он и выражал нередко. Но при этом не нужно забывать, что второго рода заявления Проперция довольно часто звучат, как простые привычные фразы, характеризующие лишь образ выражения поэта. Не следует упускать из виду и одного его признания, которое было сделано около 732 (22) года, и из которого следует, что Проперций предпочитал в молодости заниматься поэзиею и жить в свое удовольствие, и что лишь в солидные и пожилые годы он не прочь был и даже предполагал заняться такими предметами, как изучение законов природы и исследование того, какой бог так искусно править мирозданием, есть ли посмертные муки для грешников, или передаваемые рассказы об этих мучениях суть басни, пущенные для устрашения бедных людей, и за гробом бояться нечего, и т. п. До зрелых лет поэт, как известно, не дожил, и таким образом в течение всей своей недолгой жизни остался в сущности тем, чем был и хотел быть, по его собственным словам, в своей первой молодости, т. е. человеком, который больше всего ценит обычные удовольствия. А этим уже в значительной степени определяется и характер теологии Проперция.
Овидий также, конечно, не был совершенно чужд религиозной настроенности; мысль о богах посещала его нередко даже в годы его молодости, когда ко всем важным вопросам жизни он относился наиболее легко; однако цельного религиозного, как и философского, мировоззрения ни тогда, ни после у него не было. Оттого-то и в годину своих несчастий он так потерялся и, не имея в себе религиозно-нравственной опоры, не смог сколько-нибудь мужественно нести свою беду. По своей натуре Овидий, прежде всего, человек веселый, склонный к смеху и ко всякому баловству, а его поэзия (в период до ссылки) по своим основным и характерным чертам представляет шутливую, сверкающую остротами, речь образованного светского человека; цель этой поэзии, проникнутой веселостью, есть также веселье и забава. Поэтому, передавая например мифы, он совсем не имеет в виду возбудить или вызвать в своих слушателях или читателях веру в эти мифы, как и сам не имеет этой веры. Он хочет только доставить читателю занимательное и разнообразное чтение и, действительно давая такое чтение, вместе с тем сам наслаждается своими картинами.

При отсутствии у Овидия серьезной, в глубине ума и сердца коренящейся религиозности, которая давала бы известную окраску в определенный характер основным его воззрениям на мир и на жизнь, и при обычной шаловливости и несерьезности его музы, которая больше всего любит смех и веселье, – весьма натурально, что поэт относится обыкновенно легко и к предметам веры. Иногда, начав говорить о каком-нибудь религиозном вопросе с подобающей серьезностью, он вдруг делает заключение, идущее совершенно вразрез с его прежними мыслями и придающее всему рассуждению совсем новый характер, именно характера беседы человека, у которого в сущности нет никаких религиозных убеждений, который хочет лишь быть занятным и остроумным. Так же естественно, что и в раннее, вообще счастливое, время своей жизни, и в поздний, омраченный несчастьем период ее, этот поэт относился иногда с сомнением, иногда с шуткой к бытию богов, к их владычеству в мире и т. п. «Вот и верь в бытие богов»! – говорил он однажды, припоминая оставшееся безнаказанным одно клятвопреступление. Из этого факта он сделал вывод, что «или бог есть одно только имя, и страх пред ним напрасен, и влияние его на народы основано лишь на глупом легковерии» (толпы), или бог несправедлив и пристрастен. Тон, в котором ведутся подобная речи, показывает, что и самый вопрос о существовании богов бывал для Овидия в сущности безразличен. «Полезно, чтобы боги были», – учил он в своей известной и оригинальной науке, – «и, так как это полезно, станем думать, что они существуют. (В виду этого) пусть приносится на старинные жертвенники ладан, и вино, и прочие». Овидий явно, хотя и благодушно, смеется здесь над верою в богов и над проявлением этой веры во внешнем культе. Эта вера – полезное изобретение, и больше ничего, – вот мысль поэта, выраженная сначала прямо, а затем в форме как бы простодушно-благочестивых советов, в действительности же проникнутых иронией. Он высказался при том же случае и против религиозно-философских новшеств Эпикура, замечая, что «не объемлет богов беззаботный и на сон похожий покой», но и этот его отзыв видимо составляет не более чем фразу. Когда, долго спустя после того, находясь уже в Томах, Овидий касался своей невеселой жизни в ссылке и тяжелого пути туда, он выражал недоумение относительно того, чему он обязан своей несчастной долей: случаю ли, или гневу богов, или Паркам, которые, при его рождении, были к нему немилостивы – недоумение, которое нельзя не назвать характеризующим его принципиальною позицию. В этот же раз, обращаясь к Вакху, он говорил: «тебе следовало бы поддержать своею божественною силою одного из приятелей плюща» в несчастии – фамильярность, на которую едва ли давали право Овидию его особенная преданность и весьма усердное служение этому богу. При этом же случае, пытаясь, и уже не впервые, подействовать на императора лестью, он говорил: «между богами есть общение; попробуй же, Вакх, своею божественною силою склонить (ко мне) божественного Цезаря» – выражение, тоже бросающее некоторый свет на занимающий нас вопрос, особенно если вспомним, что Овидий устроил даже в своем доме на месте ссылки что-то вроде часовни в честь императора Августа, где стояли также статуи императрицы Дивии и Тиберия, божеств, по лицемерному отзыву Овидия, не меньших, чем и сам Август, и где он (разумеется, для виду) будто бы ежедневно воскурял фимиам и молился ). Отношение поэта к божеству, как равного к равному, наблюдаемое я в позднейшее время его жизни, было почти обычно в его молодости. Некогда, например, но словам Овидия, задумал он описать борьбу Юпитера с гигантами, но произошел один случай в интимной жизни поэта, и он сразу и совершенно забыл об Юпитере и молнии, которою громовержец поразил гигантов и о которой Овидию предстояло говорить: этот случай оказался сильнее юпитеровой молнии, что поэт и высказал, обращаясь прямо к Юпитеру. Он иногда гневно говорит с богами, принимая тон человека, крайне недовольного их действиями и подвергающего их резкой критике, заставляет нужных ему богов являться и говорить то, что ему угодно, и т. д. Советуя прибегать к подкупу в некоторых делах, предосудительных с точки зрения высшей, не Овдиевой морали, он говорить: «верь мне: дары пленяют и людей и богов; сам Юпитер умилостивляется, когда ему принесены дары. Тем легче задобрить людей, которых иногда можно купить самым маленьким подарком». Сопоставление весьма интересное; а подобных сопоставлений у Овидия не мало. Из стихотворений этого поэта легко было бы привести множество мест, свидетельствующих о том, как безразлична была для Овидия профанация религиозных преданий Рима, как мало значили для него священные традиции, как легко относился он к тому, что для других могло составлять предмет веры, каким цинизмом, хотя иногда скрытым под изящной формой, были проникнуты многие отзывы и упоминания его о богах и их делах. Практический скептицизм, очевидно, пустил глубокие корни в душе этого поэта, столько же замечательного своими дарованиями, сколько и легкомыслием. Указанные воззрения, возникшие на почве религиозного скептицизма, в большей или меньшей степени проникнутые этим скептицизмом или по крайней мере располагавшие к нему, должны были, разумеется, переходить от поэтов и к их читателям. Если принять в соображение, что влияние поэтической литературы на образованное общество в ту пору было отнюдь не меньшее, чем, например, у нас во время сравнительного расцвета русской поэзии, что главнейшие из тогдашних поэтов были популярны и в столице, и в провинциях, читались образованными людьми едва ли не всех сословий почти всякого возраста, то станет ясно, что скептические воззрения, основание для которых положила философия и которые слагались под многими и разнообразными благоприятными условиями встречали благородную почву. Под влиянием этих воззрений старая вера в народе ослабевала больше и больше, уступая свое место иным религиозным, а также и философским представлениям; слабела в некоторых и религиозность вообще, соответственно усилению философского скепсиса.
Было бы несогласно с действительностью говорить о полном религиозном разложении римского языческого мира пред пришествием в мир Спасителя и утверждать, что Рим в религиозном отношении находился тогда в состоянии конечного упадка, как утверждают некоторые. Во многих отношениях жалок был тогдашний римский мир; но он обладал кое-чем и ценным. Вера в единого Бога или в единое божественное качаю, как давно и справедливо замечено, утвердилась в древности среди некоторых философски образованных язычников прежде, чем языческое многобожие было ниспровергнуто христианством. Правда, принцип единобожия у язычников не был последовательно проведен, и был он принят лишь немногими; но важно уже то, что он существовал. Это – немаловажная заслуга древней философии для человечества и для самого христианства, хотя, разумеется, нисколько не умаляющая действительного значения христианства в его борьбе с языческим политеизмом. Вместе с теологией, и мораль той поры, на сколько она отразилась в современных литературных произведениях и на сколько о ней можно судить по господствовавшим тогда в образованной среде философским учениям, не свидетельствует об окончательном падении римского языческого мира. И христианство, конечно, не могло бы так быстро распространиться и утвердиться в Риме, если бы не встретило благоприятных для себя движений, между прочим и в области религиозно-философской мысли римского язычества: христианству в противном случае не к чему было бы привиться. С другой стороны, и само язычество, как религия, далеко еще не утратило тогда своей власти над умами и имело не малую силу. Это силой, как известно, обладало оно и позднее; тем значительнее должна была быть эта сила при Августе. Таким образом, принимать ли традиционное «полное разложение язычества» в смысле отсутствия в язычестве всяких добрых идей и стремлений, или в смысле утраты им всякой власти над умами, и в том, и в другом случае указанная фраза не вполне верна и нуждается в ограничении. Но взятый в целом, римский мир несомненно находился в плачевном положении и носил в себе семена смерти.
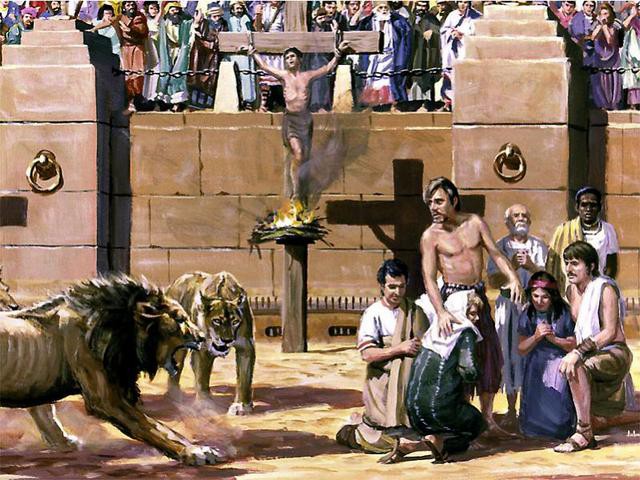
Прошло несколько веков, и римское, язычество, как религия, исчезло. Но, к удивлению, многие из тех понятий я стремлений, которые распространялись в древнем Риме, продолжали, существовать и в христианских обществах. Они существуют доселе, представляя поразительные и поучительные примеры аналогий между временем древним и позднейшим. Вследствие этого присутствия языческих начал в нашей жизни для многих совсем непонятно значение христианства, как единственной основы истины, света и жизни, имеющих свой источник во Христе, и они готовы бывают смотреть на него как и на всякую другую религию, именно как на одно из неизбежных, но не непременно нужных условий человеческого существования. В то далекое от нас время, даже некоторые лучшие люди думали, что многое в религиозных установлениях нужно поддерживать собственно ради государственной пользы и, таким образом, придавали религии значение простого государственного учреждения. Но разве и в наше время нет людей, которые смотрят и на христианскую религию точно так же? В ту пору, как и прежде, например при Варроне, и позднее, когда, например, Минуций Феликс характеризовал своего Цецилия, многие римляне, несмотря на свое критическое отношение к государственной религии, говорили, что Рим велик своею религиею. Но не слышим ли и мы от некоторых своих соотечественников возгласов о том, что Россия сильна своею верою, хотя некоторые из них в глубине своей души скрывают или же по крайней мере стараются скрыть крайний религиозный скептицизм, и в личной жизни, быть может, дальше находятся от веры, чем сходные с ними по направлению римляне? В ту пору дух сомнения и отрицания, бесспорно, господствовал в значительной части римского образованного общества. Но этот дух не менее могуч и в наши дни, когда он проник решительно во все общественные слои и везде находить себе приверженцев, убивая или охлаждая в них стремления к Высшему Существу? В этом отношении наше время даже несчастнее тогдашнего. Тогда, во времена язычества, религиозный скептицизм мог приводить к истине, свету и жизни, пробуждая стремление к истинному Богопочтению, а теперь, во времена христианские, проводимый последовательно, он ведет только к смерти, ибо удаляет от источника жизни – от Христа.

Бесспорно, в жалком, почти безотрадном состоянии находилась римская языческая религия пред явлением христианства; но это состояние язычества было естественно и неизбежно для него, как произведения по преимуществу мысли человеческой и как религии естественной, которую должна была заменить иная, принесенная Сыном Божиим, вера. Христиане владеют этою верою, им дан полный свет Откровения, но однако и они временами во многих отношениях напоминают людей дохристианского времени, к которым лучи Божественного Откровения доходили лишь в рассеянном и отраженном виде. Станем, по крайней мере, надеяться, что так не всегда будет и что христианские народы, в течении своей жизни растерявшие многое из того, что некогда получили они от христианства, и вообще худо воспользовавшиеся доставшимся им в христианстве божественным даром, со временем лучше воспользуются им. Хотелось бы, в частности, думать, что наблюдаемый ныне в России подъем религиозности в церковном духе создает условия, при которых возможно будет большее проникновение мысли и жизни нашей началами христианства, и что этот подъем не есть явление временное, – и верим, что это религиозное движение, при возможном его ослаблении, будет с энергиею поддержано всеми, кому дорого торжество христианской истины.











