
Самые блестящие представители русской литературы, благодаря которыми принято период их жизни называть золотым веком, были несомненно религиозными людьми. В творчестве таких титанов мысли, как Пушкин, Достоевский, Тургенев, Лермонтов, Толстой весь творческий пафос направлен к духовным поискам, к пограничным экзистенциальным состояниям: поиск веры и ее утрата, стремление обрести живую жизнь и падение человека с духовных вершин в пошлость жизни. Именно атмосфера, в которую Ф.М. Достоевский вводил своих героев – братьев Ивана и Алешу Карамазовых, чтобы они поговорили на тему «проклятых вопросов», была знакома и остальным вышеупомянутым отечественным мыслителям. Совершенно очевидно, что их интуитивное прозрение отталкивалось от видения судьбы человека в свете апокалиптической развязки. Их художественная интуиция исходила не из секулярного мировоззрения с его заботой о сиюминутном пребывании человека здесь, на земле, а из эсхатологического пафоса, свойственного христианскому миропониманию, ищущему ответ на вопрос: каким человек предстанет перед Лицем Божиим в реальности Царства Небесного. Недаром многие исследователи истории русской мысли говорили о том, что русскому человеку присуща своеобразная телеологичность, перевернутая перспектива. Так, например, выдающийся русский богослов и философ Зеньковский отмечал «анропоцентризм русских философских исканий». По его мнению, русская философия «больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории» [1]. Еще Бердяев указывал, что смысл истории нельзя искать в герменевтике историзма, потому что смысл истории находится вне ее, в том, что наступит после исторического времени, т.е. в эсхатологическом измерении жизни.
В вышеупомянутом перечне отечественных мыслителей мы специально пропустили одного — Николая Васильевича Гоголя.

Выдающееся художественное мастерство Гоголя проявляется в его умении показать религиозные корни культуры и религиозное оправдание искусства. В своей повести «Портрет» Гоголь в художественной форме передает глубинную суть человека такой, какой она закреплена в христианском мировоззрении. Более того, «Портрет» является своеобразным художественным комментарием на христианскую антропологию. Итак, в чем суть христианской антропологии? Поиск ответа на вопрос такого рода всегда приводит человека к Евангелию. Потому что ответ на «проклятые» вопросы человек получает не от людей, а от Бога и от тех, кому Он открывает Свою волю. Евангелие есть апостольское свидетельство о Богочеловеке Христе. Своим ученикам-апостолам Он говорил: «Не можете служить Богу и мамоне» (Матф 6:24). Это значит, что человек не может получить какой-то онтологический статус, определяемый в категориях чистой человечности (человек как выражение самого себя – автономное бытие), а всегда находится в положении служения: Богу или дьяволу. Человек выбирает между подчинением своему Творцу, превращающемуся в «свободу славы детей Божиих» (Рим 8:21), или подчинением дьяволу, ни во что не превращающемся, а лишь прогрессирующем в этом рабстве до адских пределов «где червь их не умирает и огонь не угасает» (Марк 9:44).
Выдающийся сербский богослов преподобный Иустин Попович называл первородный грех Адама «первоначальным гуманизмом»: «В своей сущности, человеческое падение состояло в том, что человек восстал против богообразного устройства своего бытия, покинул Бога и Божие и свел себя на чистое вещество, на чистого человека. Первым восстанием против Бога человек отчасти успел выгнать Бога из себя, из своего сознания, из своей воли, притом оставаясь при чистой человечности, при чистом гуманизме. Horribiledictum (страшно сказать), но на самом деле гуманизм – основное зло, первоначальное человеческое зло. Во имя того первоначального гуманизма человек выгнал Бога в сверхчеловеческую трансцендентность и весь остался при себе и в себе»[2]. Этот прием христианского антропологического дискурса, рефлексирующего на человека как на «открытую систему» и на антропологическую реальность как на открытую реальность, проявился и в выдающемся художественном мастерстве Гоголя. Самому загадочному русскому писателю удалось с необычайной художественной силой передать это крестоносное положение человека в падшем мире, находящемся между двумя взаимоисключающими полюсами: божественно-сверхчеловеческом и демоническо-недочеловеческом.
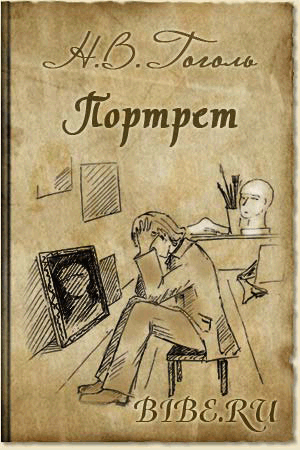
Повесть Н.В. Гоголя состоит из двух взаимосвязанных частей. Первая часть повести рассказывает о молодом художнике по фамилии Чартков, который не сумел отстоять свое искусство перед жаждой обогатиться материально. Художественный талант как дар свыше видится Гоголем в виде Божиего призыва художнику воплотить в своем творчестве настоящее искусство. Автор «Портрета», через трагедию художника Чарткова, показывает читателю губительную власть алчности. Гоголь все время предостерегает читателя от искушения материальным богатством. Николай Васильевич вдохновенно развертывает историю духовной гибели живописца. Отказ от аскетического образа жизни ведет к потере таланта. Получив деньги, художник вместе с ними получил и тщеславие: «В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! Видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!»[3]. Таким образом, он прекрасно устроился, составил себе карьеру, добился успеха у столичной знати. Тогда искусство превратилось из божественно-трансцендентной силы, имеющей задание преображать мир, в профанированное явление, стоящее на службе суетному миру. «Смотри, брат, – говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь… Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец… Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант» [4].
Главная идея первой части повести состоит в том, что герою пришлось за свой быстрый успех расплачиваться не только талантом, но и душой. В ситуации обвала нравственной стойкости молодой художник потерял сакральное измерение искусства, что в конце концов привело к столкновению с чистым нигилизмом. Таким образом, искусство стало синонимом Ничто, т.е. мир искусства превратился в синоним нигилизма. Жадность и тщеславие Чарткова выпустили из старого портрета спрятанные инфернальные силы. Эти силы из демонического персонажа (портрет ростовщика) благодаря нравственно-духовной опустошенности художника перешли в его душу. Высокое драматургическое мастерство Гоголя передает христианский дискурс о трагической судьбе человека. Если мы посмотрим более проницательно в общий контекст первой части «Портрета», мы удивимся, насколько художественная интуиция автора перекликается с христианским видением законов духовной жизни и последствием их нарушений. Завоевание демоническими существами души человеческой, о чем пишет автор в первой части, необычным образом совпадает со следующим повествованием на эту тему, которое дает Евангелие: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф 12: 43- 44). В ключе евангельского отрывка Гоголь обнаруживает процесс внутреннего расщепления и раздвоения человеческой личности, при котором она становится уязвимой для демонов. Автор изображает гибель души молодого художника, которая постепенно погружается в охватывающие ее пороки: вначале в алчность, затем в конформизм и тщеславие и в конце – в гордыню и зависть. Таким образом, Чартковым овладела страсть к разрушению. Последние дни его жизни были ужасны: он безжалостно уничтожал лучшие картины, шедевры мировой живописи. Трагедия молодого художника видится Гоголю в ракурсе девиации жизни от нравственных начал. Подытоживая рассмотрение первой части повести, можно сказать, что логическим завершением этого нигилистического процесса в душе Чарткова становится превращение художника в антихудожника.
Во второй части повести рассказывается о судьбе автора того таинственного портрета, сумевшего преодолеть в себе начавшуюся нравственно-духовную энтропию. И здесь мы имеем дело с Евангельским эквивалентом гоголевского персонажа. Рассказ Христа о блудном сыне, пожалуй, мог быть использован отечественным мыслителем в качестве парадигмальной посылки. Автор портрета, как и Чартков, суть метафора блудного сына – взявшего от отца свою часть имущества, т.е. художественный талант как дар от Небесного Отца. Отделение от отца и въезд в чужую страну есть метафора на подмен искусства псевдоискусством. Обнаружение нигилистической подоплеки вскрывает процесс отчуждения искусства от его божественно-мистических корней. Для Гоголя натуралистический реализм является не плодом творческой интуиции художника, а признаком исчезновения духовного видения. Художник, как и молодой Чартков, «искал ту степень мастерства, то творческое состояние, которое позволяет уловить и передать глубинную суть живого человеческого лица».Портрет получился “совершенный”, как будто живой человек глядел с полотна. Всех присутствовавших в лавке поразили глаза ростовщика, “живые” глаза, пронизывающие душу насквозь. Гоголь несколько раз повторяет, что портрет обладал необыкновенной силой реального присутствия изображенного ростовщика: «Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью…»[5]. У истоков этого натуралистического реализма стоит не прозрение гениального мастерства, а потеря веры и триумф атеизма.
Поэтому автор портрета, как и Чартков, стремился к точному изображению, к овладению природой, к отражению биологической ипостаси, выражаясь богословской терминологией. В вытеснении эсхатологического реализма натуралистическим реализмом Гоголь находит следы замирания настоящего искусства. Недаром «русский Леонардо да Винчи» – священномученик отец Павел Флоренский – упрекал самого да Винчи в том, что его произведения охвачены гипернатурализмом.

Подмена Небесного Эроса плотским видится Флоренскому даже в одном из выдающихся шедевров мирового искусства – у «Джоконды»: «Недаром загадочная и соблазнительная улыбка всех лиц Леонардо да Винчи, выражающая скептицизм, отпадение от Бога и само-упор человеческого «знаю», есть на деле улыбка растерянности и потерянности: сами себя потеряли, и это особенно наглядно у «Джоконды». В сущности, это – улыбка греха, соблазна и прелести, — улыбка блудная и растленная, ничего положительного не выражающая (в том-то и загадочность ее!), кроме какого-то внутреннего смущения, какой-то внутренней смуты духа, но – и нераскаянности» [6].
Замена эсхатологического образа человека натуралистическим, иконы – портретом, приводит художника к потере способности отображения божественных черт в человеческом лике. Перед таким художником больше стоит не человек как образ Божий, но человек как карикатура дьявола. Именно здесь Гоголь передает нам в художественно-литературной форме образ блудного сына. Об этом он говорит через своего героя, открывающего как его отец-художник осознал, что расточает свое имущество – божественный дар искусства. Сын художника объясняет, что отец его на той стадии жизни был захвачен страстью зависти. Выход из приближающейся духовной смерти находился в акте покаяния – μετανοια, либо в процессе возвращения блудного сына своему отцу – художника к настоящему искусству. «Картины были представлены, — рассказывает сын о выставке своего отца, — и все прочие показались пред нею, как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника, точно, есть много таланта, — сказал он, — но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул» [7].
Что не сумел сделать Чартков, сумел этот художник и герой второй части повести. Он нашел в душе достаточно сил, чтобы совершить прыжок в покаяние. Этот глубочайший переворот и трансформация, что и означает греческое слово μετανοια, есть нечто иное как возвращение блудного сына к своему отцу. Страстный пафос плоти подавил дух творческой свободы, и лишь уход в монастырь и уединение видится художнику единственным способом фундаментального изменения. Гоголь заостряет внимание на аскетическом образе жизни, ибо здесь погибал не только творческий талант, но сама душа человека. Здесь недостаточным было изменение художественного приема, а весь человек нуждался в онтологическом очищении.
Путь катарсиса (καθαρσις) Гоголь вслед за Святыми Отцами изображает как путь восстановления теснейшего общения с Богом. Осознавая, что здесь было отпадение от Бога через искусство, художник понимает, что он должен найти Бога, поэтому и ступает на путь кенотического, нравственно-аскетического подвига. Именно в аскетическом уединении он понимает, что имеет дело не с ошибочной художественной интуицией, которую надо просто изменить, а с прельщением ума и помрачением сознания, требующих глубочайшего изменения. Только на вершине молитвенного подвига художник понимает, что он был не только ошибающимся художником, а несравненно больше того – погибающим грешником и блудным сыном, находящимся далеко от своего отца и своего дома – настоящего искусства. В этой атмосфере встречи блудного сына с отцом, изобилующей, с одной стороны, глубиной человеческого смирения: «Сын же сказал ему: отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим», с другой стороны – глубиной божественного прощения: «А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги…», происходит и восстановление настоящего искусства через восстановление сыновства. Именно об этом говорит гоголевская редакция евангельского рассказа о блудном сыне: приняв прощение от своего отца, блудный сын отзывается на мольбу своих братьев написать икону Спасителя: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд» [8].
И если раньше «кисть его послужила дьявольским орудием», то теперь «все были поражены необыкновенной святостью фигур». Возвращение к отцу есть возврат от живописи к иконописи, где идеальный человек изображен в Лике Богочеловека Христа и Его Пречистой Богоматери. Картина, созданная художником после его пострижения и отшельничества, поразила «необыкновенной святостью фигур». «Чувство божественного смирения и кротости в лице Пречистой Матери… святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, – всё это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое» [9].Тот этап своей жизни, когда он превратил искусство в антиискусство, т.е. когда художественная интуиция блудного сына хотела хранить себя нечеловеческой едой – «рожки, которые ели свиньи» (Лк 15:16), он сумел перебороть бдением и подвигом жизни во Христе.
Таким образом, на место δαιμονοδιδακτικοσ-а – обученный дьяволом, стоял художник Θεοδιδακτικος – обученный Богом. Только после этого он получил право давать наставления своему сыну-художнику, который собирается ехать в Италию: «Намёк о божественном, небесном заключён для человека в искусстве, и потому одному оно уже выше всего… Всё принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью, не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью: без неё не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства»[10].
Повесть «Портрет» Н.В. Гоголя своим аскетическим содержанием может стать достойной иллюстрацией аскетического памятника «Добротолюбие», отражающего внутреннюю духовную борьбу добра и зла в сердце человеческом.
Патриарх Кирилл в своем выступлении на международной конференции в Бразилии в 1996 г., говоря о значении русской культуры как носительницы Евангелия Христова, указывает, что русский человек преодолел атеизм именно благодаря тому, что утолял духовную жажду через классические литературные произведения, пропитание христианским миросозерцанием. «О Христе свидетельствовало буквально все, что было создано за многие века культурного развития – литература, поэзия, архитектура, живопись, музыка»[11]. В этой победе особые заслуги принадлежат Николаю Василевичу, ибо для него все творчество человека, в том случае и искусство, есть нечто иное как путь к эсхатологической реальности будущего века, покаяние и возвращение к Отцу Небесному.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гоголь В.Н. Собрание сочинений. Т. 3. Портрет. Государственное издательство художественной литературы. М. 1952. 2. Православная миссия сегодня: Сборник текстов по курсу «Миссиология».СПб.: Апостольский город, 1999. 3. Поповић И. Богоносни христослов. Манастир Хиландар, 2007. 4. Зеньковский В. История русской философии. Академический проект. М. 2001. 5. Флоренский П. Столп и утверждение истины. М.: Гаудеамус, 2012.
[1] Зеньковский В. История русской философии. Академический проект. М. 2001. С. 20. [2] Поповић И. Богоносни христослов. Манастир Хиландар, 2007. С. 53. [3] Гоголь В.Н. Собрание сочинений. Т. 3. Портрет. С. 90. [4] Там же. С. 77. [5] Там же. С. 84. [6] Флоренский П. Столп и утверждение истины. С. 179. [7] Там же. С. 121-122. [8] Там же. С. 124. [9] Там же. С. 125. [10] Там же. С. 126. [11] Кирилл (Гундяев), патриарх Московский и всея Руси. Благовестие и культура. Доклад на Всемирной миссионерской конференции (Сальвадор, Бразилия, 24 ноября – 3 декабря 1996 г.). В кн.: Православная миссия сегодня. Сборник текстов по курсу «Миссиология». С. 29.











