 Илья Ильич Мечников чрезвычайно удивительное явление в рамках интеллектуальной культуры России и вообще Европы конца XIX начала XX веков, но, с другой стороны, он естественное порождение этой культуры и все его выводы и убеждения, даже те, которые намного опережали его время, целиком находятся в границах сформировавшихся к тому времени мировоззренческих констант. Несмотря на то, что своё образование он получал в России, где православная культура была не только доминирующим фоном, но и содержанием многих гуманитарных предметов, в своих трудах И.И. Мечников демонстрирует очень глубокое знание эллинистической литературы и очень поверхностное знакомство с христианской литературой. В этом, безусловно, проявляется не только влияние сложной семейной атмосферы, вероятнее всего, очень далёкой от православных религиозных традиций, но и некоторые природные черты его характера. В своих мемуарах Ольга Николаевна Мечникова вспоминает об одном очень характерном случае из жизни будущего великого учёного: «Однажды дети неистово расшалились, подняли страшную беготню и визг. Снизу пришли сказать, что хозяйка больна и просит не шуметь. Илюшу возмутила эта помеха в самом разгаре игры, и он пришёл в такую ярость, что лёг на пол и принялся нарочно свистеть в щель. Укротить его стоило больших усилий» В определённом смысле здесь всё объясняется психологическим законом, который сформулировал Кюе. Эмоциональный всплеск детской игры был слишком высок, чтобы ребёнок мог справиться с ним усилием ещё не окрепшей воли, но далеко не всякий ребёнок способен так конкретно сформулировать свой протест. Всегдашняя готовность чётко формулировать возникающий внутренний протест, своё неприятие действительности были отличительнейшей чертой И.И. Мечникова. Возможно,здесь кроется и одна из причин его нескольких попыток своевольно уйти из жизни?
Илья Ильич Мечников чрезвычайно удивительное явление в рамках интеллектуальной культуры России и вообще Европы конца XIX начала XX веков, но, с другой стороны, он естественное порождение этой культуры и все его выводы и убеждения, даже те, которые намного опережали его время, целиком находятся в границах сформировавшихся к тому времени мировоззренческих констант. Несмотря на то, что своё образование он получал в России, где православная культура была не только доминирующим фоном, но и содержанием многих гуманитарных предметов, в своих трудах И.И. Мечников демонстрирует очень глубокое знание эллинистической литературы и очень поверхностное знакомство с христианской литературой. В этом, безусловно, проявляется не только влияние сложной семейной атмосферы, вероятнее всего, очень далёкой от православных религиозных традиций, но и некоторые природные черты его характера. В своих мемуарах Ольга Николаевна Мечникова вспоминает об одном очень характерном случае из жизни будущего великого учёного: «Однажды дети неистово расшалились, подняли страшную беготню и визг. Снизу пришли сказать, что хозяйка больна и просит не шуметь. Илюшу возмутила эта помеха в самом разгаре игры, и он пришёл в такую ярость, что лёг на пол и принялся нарочно свистеть в щель. Укротить его стоило больших усилий» В определённом смысле здесь всё объясняется психологическим законом, который сформулировал Кюе. Эмоциональный всплеск детской игры был слишком высок, чтобы ребёнок мог справиться с ним усилием ещё не окрепшей воли, но далеко не всякий ребёнок способен так конкретно сформулировать свой протест. Всегдашняя готовность чётко формулировать возникающий внутренний протест, своё неприятие действительности были отличительнейшей чертой И.И. Мечникова. Возможно,здесь кроется и одна из причин его нескольких попыток своевольно уйти из жизни?
 По своему мировоззрению, И.И. Мечников конечно же материалист. Академик И.Павлов тоже был материалистом, но это не мешало ему быть одновременно и религиозным человеком, но Илья Ильич, однако, для данной аналогии вряд ли подходит. И дело здесь не в том, что он в своих трудах часто высказывает мысль, что наука и воля человека, развивающегося в правильном культурном направлении, могут ответить на все вопросы перед человечеством возникающие и исправить все дисгармонии человеческой природы – в его суждениях часто проскальзывают настроения очень далёкие от возможных религиозных переживаний. Например, в статье «Биология и медицина» И.И. Мечников, утверждая наличие в человеческой жизни различного рода дисгармоний, на которые указывал в своих работах уже Дарвин («… получеловеческие существа, сделавшись людьми, потеряли прежнюю силу инстинкта и стали заменять его рассудком, причём инстинктивные действия извратились» стр. 201), и, замечая определённую схожесть данного вывода с Библейским рассказом о грехопадении, торопится пояснить: «… Мне никогда и в голову не приходило доказывать, будто существует дисгармония с законами природы и будто поэтому дисгармонические проявления составляют нечто сверхъестественное.
Всякая болезнь составляет также естественный результат законов природы, но тем не менее человек стремится устранить её» (стр. 203) Вывод для учёного очевиден: «Человек «принадлежит к числу видов, ещё не вполне установившихся и не полно приспособленных к условиям существования. Унаследованные им инстинкты потеряли свою первоначальную силу, сделались шатки, тогда как долженствующий стать на их место разум ещё недостаточно развился и окреп. Отсюда раздвоение и разлад…» «В общем, нельзя отрицать, что природа наша вследствие своего животного происхождения заключает много несовершенств» (с.239).
Таким образом, по мнению Мечникова, в нашей природе присутствуют реалии, которые «могут и должны быть устранены и видоизменены, и прикладное знание (искусство в широком смысле) должно содействовать этому» (с.203). В конце своей интереснейшей статьи Мечников приводит пример, который даёт очень большие возможности для анализа. Он указывает на сделанные Дарвиным и Уоллесом наблюдения, по которым организмы размножаются в гораздо большей степени, чем это необходимо для выживания вида и, поэтому, большая их часть не способна к выживанию. Отсюда и возникает якобы механизм отбора. В природе это ведёт к установлению некоторой гармонии, с одной стороны путём приспособляемости, с другой посредством уменьшения рождаемости. Причём подчёркивается, что всё это происходит чисто «механически», употреблённый термин самого Мечникова, без участия сознания. Человек же данную дисгармоничность сознаёт и, поэтому, пытается исправить её, вмешиваясь в естественное развитие природных процессом. Учёный предлагает три способа исправления действительности: человек для оправдания своей плодовитости может изыскивать достаточные средства, может замедлять вступление в брак, и может стремиться искусственным путём ограничивать рождаемость. В заключение своих рассуждений Мечников довольно категорично заявляет, что только «те люди одерживают победу в борьбе за существование, которые следуют по одному из этих путей» Кажется, современное общественное мнение, стоящее на точки зрения возможности искусственного ограничения рождаемости и использующее активно предлагаемые И.И. Мечниковым способы регулирования рождаемости, по крайней мере, некоторые, не замечает, что таким образом уничтожается выработанный природой способ естественного отбора. Никто точно не знает, но можно себе представить, сколько талантливых и сильных людей погибло не родившись, и сколько биологических уродов продолжает жить благодаря гуманистическим традициям, выросшим в рамках культуры из христианства. Основной вывод Ильи Ильича здесь довольно близок к формулировкам Ницше. Он пишет в самом конце своей статьи: «Таким образом, в человеческом мире сознание и воля являются факторами подбора, который в мире остальных организмов справляется без них…» Правда, в отличии от Ницше, Мечников очень большое значение придаёт фактору культуры, обращая внимание на то, что есть сферы человеческой жизни, в которых «искусство стало неизмеримо выше природы (музыка)» (с.204). Здесь он всецело разделяет мнение деятелей Французской буржуазной революции. Правда позже, Робеспьер, разочаровавшись в возможностях скорого окультуривания своего народа, выразил вполне аристократическую и потому контрреволюционную мысль, что простой народ вполне возможно оставить в рамках религиозных предрассудков.
Мечников активно полемизирует с Ж.-Ж. Руссо относительно естественной гармоничности человека «вышедшего из рук Творца», указывая на крайнюю дисгармоничность естественной жизни слабо развитых народов. Однако находясь под восторженным впечатлением от Дарвиновской теории развития мира, он не замечает того факта, что исследуемые туземные племена могут быть не только в состоянии остановившегося развития, но и в зависимости от определённых деградационных процессов. Людоедство, к примеру, вряд ли нужно расценивать как естественный реликт животной природы, а, скорее, как результат приспособляемости к определённым внешним условиям. Европейцы, как мы знаем, попадая в тяжёлые жизненные обстоятельства, прибегали к этому сомнительному средству сохранения жизни довольно часто, правда, не все и не всегда.
По своему мировоззрению, И.И. Мечников конечно же материалист. Академик И.Павлов тоже был материалистом, но это не мешало ему быть одновременно и религиозным человеком, но Илья Ильич, однако, для данной аналогии вряд ли подходит. И дело здесь не в том, что он в своих трудах часто высказывает мысль, что наука и воля человека, развивающегося в правильном культурном направлении, могут ответить на все вопросы перед человечеством возникающие и исправить все дисгармонии человеческой природы – в его суждениях часто проскальзывают настроения очень далёкие от возможных религиозных переживаний. Например, в статье «Биология и медицина» И.И. Мечников, утверждая наличие в человеческой жизни различного рода дисгармоний, на которые указывал в своих работах уже Дарвин («… получеловеческие существа, сделавшись людьми, потеряли прежнюю силу инстинкта и стали заменять его рассудком, причём инстинктивные действия извратились» стр. 201), и, замечая определённую схожесть данного вывода с Библейским рассказом о грехопадении, торопится пояснить: «… Мне никогда и в голову не приходило доказывать, будто существует дисгармония с законами природы и будто поэтому дисгармонические проявления составляют нечто сверхъестественное.
Всякая болезнь составляет также естественный результат законов природы, но тем не менее человек стремится устранить её» (стр. 203) Вывод для учёного очевиден: «Человек «принадлежит к числу видов, ещё не вполне установившихся и не полно приспособленных к условиям существования. Унаследованные им инстинкты потеряли свою первоначальную силу, сделались шатки, тогда как долженствующий стать на их место разум ещё недостаточно развился и окреп. Отсюда раздвоение и разлад…» «В общем, нельзя отрицать, что природа наша вследствие своего животного происхождения заключает много несовершенств» (с.239).
Таким образом, по мнению Мечникова, в нашей природе присутствуют реалии, которые «могут и должны быть устранены и видоизменены, и прикладное знание (искусство в широком смысле) должно содействовать этому» (с.203). В конце своей интереснейшей статьи Мечников приводит пример, который даёт очень большие возможности для анализа. Он указывает на сделанные Дарвиным и Уоллесом наблюдения, по которым организмы размножаются в гораздо большей степени, чем это необходимо для выживания вида и, поэтому, большая их часть не способна к выживанию. Отсюда и возникает якобы механизм отбора. В природе это ведёт к установлению некоторой гармонии, с одной стороны путём приспособляемости, с другой посредством уменьшения рождаемости. Причём подчёркивается, что всё это происходит чисто «механически», употреблённый термин самого Мечникова, без участия сознания. Человек же данную дисгармоничность сознаёт и, поэтому, пытается исправить её, вмешиваясь в естественное развитие природных процессом. Учёный предлагает три способа исправления действительности: человек для оправдания своей плодовитости может изыскивать достаточные средства, может замедлять вступление в брак, и может стремиться искусственным путём ограничивать рождаемость. В заключение своих рассуждений Мечников довольно категорично заявляет, что только «те люди одерживают победу в борьбе за существование, которые следуют по одному из этих путей» Кажется, современное общественное мнение, стоящее на точки зрения возможности искусственного ограничения рождаемости и использующее активно предлагаемые И.И. Мечниковым способы регулирования рождаемости, по крайней мере, некоторые, не замечает, что таким образом уничтожается выработанный природой способ естественного отбора. Никто точно не знает, но можно себе представить, сколько талантливых и сильных людей погибло не родившись, и сколько биологических уродов продолжает жить благодаря гуманистическим традициям, выросшим в рамках культуры из христианства. Основной вывод Ильи Ильича здесь довольно близок к формулировкам Ницше. Он пишет в самом конце своей статьи: «Таким образом, в человеческом мире сознание и воля являются факторами подбора, который в мире остальных организмов справляется без них…» Правда, в отличии от Ницше, Мечников очень большое значение придаёт фактору культуры, обращая внимание на то, что есть сферы человеческой жизни, в которых «искусство стало неизмеримо выше природы (музыка)» (с.204). Здесь он всецело разделяет мнение деятелей Французской буржуазной революции. Правда позже, Робеспьер, разочаровавшись в возможностях скорого окультуривания своего народа, выразил вполне аристократическую и потому контрреволюционную мысль, что простой народ вполне возможно оставить в рамках религиозных предрассудков.
Мечников активно полемизирует с Ж.-Ж. Руссо относительно естественной гармоничности человека «вышедшего из рук Творца», указывая на крайнюю дисгармоничность естественной жизни слабо развитых народов. Однако находясь под восторженным впечатлением от Дарвиновской теории развития мира, он не замечает того факта, что исследуемые туземные племена могут быть не только в состоянии остановившегося развития, но и в зависимости от определённых деградационных процессов. Людоедство, к примеру, вряд ли нужно расценивать как естественный реликт животной природы, а, скорее, как результат приспособляемости к определённым внешним условиям. Европейцы, как мы знаем, попадая в тяжёлые жизненные обстоятельства, прибегали к этому сомнительному средству сохранения жизни довольно часто, правда, не все и не всегда.
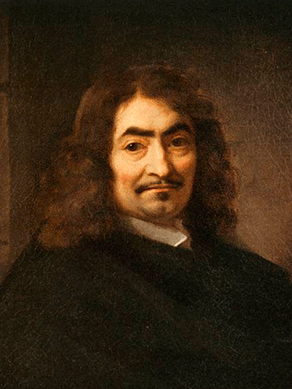 Ещё одно предварительное замечание необходимо сделать, прежде чем заниматься рассмотрением обоснования И.И. Мечниковым нравственного поведения. Он безусловно рассматривает окружающий его мир в рамках Декартовской концепции сложного механизма. Таким сложным механизмом на взгляд учёного является и человек. «Чем сложнее данная машина, пишет он (с.195), — тем труднее правильное сочетание и взаимодействие всех частей её и тем легче нарушение общего строя. Это правило применяется и к одной из самых сложных животных машин – к человеку. Будучи существом общительным и притом принадлежа к числу наиболее изменчивых (так называемых полиморфных) видов, человек в высшей степени подвержен влиянию постоянно изменяющихся внешних условий, вследствие чего он всегда находится в процессе применения к ним» Конечно же, здесь чувствуется влияние его не менее великого брата Л.И. Мечникова, но в заслугу Ильи Ильича необходимо поставить то, что он понимает влияние на развитие человека как движущихся в широком смысле в истории обществ, так и связанный с этим явлением культурный фактор, что при ближайшем рассмотрении оказывается чрезвычайно важным и неоднозначным. Кстати, будучи довольно либеральным мыслителем, Л.И. Мечников усматривал критерий общественного прогресса «в нарастании общечеловеческой солидарности» Но, всё же, главным итогом таких размышлений является согласие на нравственный релятивизм, обусловленный именно необходимостью приспосабливаться к изменяющейся внешней среде. Необходимость приспосабливаться к внешней среде трудно оспаривать, но здесь для человека, как кажется, должны возникать границы, которые невозможно нарушать как раз из чисто нравственных соображений. Это тем более верно, что и в природной среде, как представляется, существуют границы адаптации. Вот, что пишет, к примеру, заслуженный профессор Московского государственного университета, академик Ю.П.Алтухов: «Каждый вид строго хранит свою уникальность. Его основные признаки связаны не с полиморфизмом как мелкой разменной монетой, которой вид расплачивается за адаптацию к среде, — наиболее жизненно важные свойства вида определяет мономорфная\ часть генома, которая лежит в основе видовой уникальности: случайные изменения в этих генах летальны…»
Ещё одно предварительное замечание необходимо сделать, прежде чем заниматься рассмотрением обоснования И.И. Мечниковым нравственного поведения. Он безусловно рассматривает окружающий его мир в рамках Декартовской концепции сложного механизма. Таким сложным механизмом на взгляд учёного является и человек. «Чем сложнее данная машина, пишет он (с.195), — тем труднее правильное сочетание и взаимодействие всех частей её и тем легче нарушение общего строя. Это правило применяется и к одной из самых сложных животных машин – к человеку. Будучи существом общительным и притом принадлежа к числу наиболее изменчивых (так называемых полиморфных) видов, человек в высшей степени подвержен влиянию постоянно изменяющихся внешних условий, вследствие чего он всегда находится в процессе применения к ним» Конечно же, здесь чувствуется влияние его не менее великого брата Л.И. Мечникова, но в заслугу Ильи Ильича необходимо поставить то, что он понимает влияние на развитие человека как движущихся в широком смысле в истории обществ, так и связанный с этим явлением культурный фактор, что при ближайшем рассмотрении оказывается чрезвычайно важным и неоднозначным. Кстати, будучи довольно либеральным мыслителем, Л.И. Мечников усматривал критерий общественного прогресса «в нарастании общечеловеческой солидарности» Но, всё же, главным итогом таких размышлений является согласие на нравственный релятивизм, обусловленный именно необходимостью приспосабливаться к изменяющейся внешней среде. Необходимость приспосабливаться к внешней среде трудно оспаривать, но здесь для человека, как кажется, должны возникать границы, которые невозможно нарушать как раз из чисто нравственных соображений. Это тем более верно, что и в природной среде, как представляется, существуют границы адаптации. Вот, что пишет, к примеру, заслуженный профессор Московского государственного университета, академик Ю.П.Алтухов: «Каждый вид строго хранит свою уникальность. Его основные признаки связаны не с полиморфизмом как мелкой разменной монетой, которой вид расплачивается за адаптацию к среде, — наиболее жизненно важные свойства вида определяет мономорфная\ часть генома, которая лежит в основе видовой уникальности: случайные изменения в этих генах летальны…»
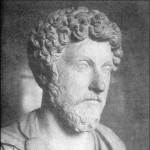 Это основатель неоплатонизма Плотин так пренебрежительно относился к своему телу, чтоученики были вынуждены слушать его беседы на значительном расстоянии ввиду доносившегося от него смрада. Неоплатоники считали, что на определённом этапе аскетизма возможен даже крайний разврат, потому что это ещё больше убивает тело и освобождает душу. Христианство никогда не проповедовало таких крайностей. Христос проповедовал, прежде всего, предпочтительность внутренней, духовной жизни над внешними условностями. Внешняя значительность, если хотите, даже гигиеничность человека, не может иметь, по мнению Христа, никакого значения, если человек в своей внутренней жизни подобен «окрашенным гробам полным нечистотами» Отсутствие достаточного интереса к внутреннему человеку делает Мечникова неспособным понять и высоту христианского искусства. Народную религиозную живопись эпохи Каролингского возрождения Илья Ильич пытается сравнивать с реалистическим искусством эллинизма. Но он, вероятно, не знает, что эпоха Каролингского возрождения развивается в Западной Европе, после столетий пребывания культуры в варварском плену, и, что существовало прекрасное христианское искусство в той же Западной Европе в период до варварского разрушения, и, что Византию и Западную Европу IV и V веков ещё нельзя разделять в культурном отношении. Не знал господин Меньшиков и о придворной капелле Жерменьи де Пре, росписи которой были выполнены придворными мастерами Каролингского двора. Конечно, от этого времени почти ничего не сохранилось, но даже только миниатюры каролингских рукописей говорят нам о невероятном вкусе к истинной красоте у образованных людей того времени. Конечно, в конце XIX начале XX веков в России только лишь начинается процесс раскрытия и восприятия эпохи своего христианского возрождения. Тогда, в XIV – XV веках из-под кисти таких иконописцев как преподобный Андрей Рублёв, Дионисий или Феофан Грек рождались откровения неземной красоты, свидетельствующие о глубинах возможного проникновения не только во внутреннюю жизнь человека, но и за её пределы. Но И.И. Мечников к этим реальностям приобщён не был и всю свою жизнь оставался в рамках эмпирического эксперимента, заключив свою внутреннюю жизнь в золотую клетку реалистических традиций западного искусства. Мне почему-то кажется, что его убеждённость в том, что «человек, благодаря своей высокой культуре, в состоянии подготовить себе счастливое существование и бесстрашный конец»(с.239), сегодня выглядит, по меньшей мере, не осторожным. И это потому, что культура, которую пытается создавать человечество без оглядки на высший Смысл, становится замкнутым пространством, жизнь которого постепенно угасает, лишённая животворного воздействия внешней духовной энергии.
Однако, было бы совершенно не простительно делать из господина Мечникова безапелляционного учёного-оптимиста. В очень интересной и содержательной статье «Наука и нравственность» он пишет: «Я так мало убеждён в существовании каких-нибудь предначертаний природы для превращения наших бедствий в блага и дисгармоний в гармонии, что нисколько не удивился бы, если бы идеал этот никогда не был достигнут…» Далее учёный говорит, что ради сохранения вида в природе приносятся как бы в жертву интересы и само существование индивида, но это не спасает от абсолютного исчезновения даже самые высокоорганизованные виды существ. «Природа не пощадила их, — размышляет учёный, — почём знать, не готова ли она поступить также и по отношению к роду человеческому? Мы не можем постичь неведомого, его планов и намерений. Оставим же в стороне Природу и будем заниматься тем, что доступно нашему уму» В этих словах, по-моему, заключается весь смысл того, что есть агностицизм. От себя стоит только добавить, что уму нашему доступа и наша внутренняя жизнь и её опыт. Кроме того, эти размышления Мечникова довольно мимолётны. Всё же он находит в себе достаточно оптимизма, чтобы закончить статью на мажорной ноте: «…Человек способен на великие дела; вот почему следует желать, чтобы он видоизменил человеческую природу и превратил её дисгармонии в гармонии. Одна только воля человека может достичь этого идеала» (с.545). Куда же всё-таки должна быть направлена человеческая воля? Неужели только на то, чтобы каждый человек смог ощутить себя этаким сохранившим бодрость духа и здоровья стариканом, который устал от жизни и, потому ему не страшно умирать. Эпикур уже в своё время об этом, кажется, всё сказал. Но как сегодня мы знаем, он был больным человеком и боролся с собственными страхами перед страданиями и смертью…
Илья Ильич, как мы уже говорили не раз, был человеком своего рационалистического времени. Оно породило и Ницшеанство, и Большевизм, и Фашизм, и сегодняшний агрессивный Демократизм – и все эти опасные для самого существования человечества явления были обусловлены именно человеческой волей. Для меня как христианина, совершенно очевидно, что она нуждается в некоторой коррекции с той высшей Волей, которая обуславливает возможность существования Науки – Смыслом, заложенным в само бытие этого мира.
Особое значение для И.И. Мечникова имел образ великого Гёте, к бессмертному произведению которого «Фауст» он очень любил обращаться. В этом произведении его прежде всего интересовали вопросы, которые так или иначе соотносились с его собственным опытом жизни. Самоубийство, любовь, обретение смысла жизни в старости – это проблемы его собственных размышлений, которые он во что бы то ни стало пытался разрешить вне религиозного способа. Даже очевидный образ спасения Фауста от самоубийства звоном пасхальных колоколов Мечников пытается объяснить «детскими воспоминаниями» Его остро интересует старческая влюблённость Фауста и возможность применить это наполнение жизни не только к самому Гёте, который видел в веселящемся ребёнке Фауста и Елены чистую аллегорию, но и, вероятно, к себе.
Но особенный интерес вызывает, конечно, его поиск смысла жизни, который, как кажется, он находит в произведении Гёте. Перед своей смертью, как известно, Фауст начинает бурную деятельность на пользу человечеству, которое благодаря его подвигу сможет жить «Надеясь лишь на свой свободный труд» Для него высшим счастьем будет возможность увидеть свой народ «в блеске силы дивной»…
«Тогда сказал бы я: мгновенье!
Прекрасно ты, продлись, постой!
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной!»
Илья Ильич не хочет замечать усмешки Мефистофеля:
«Прошло и не было – равны между собой!
Что предстоит всему творенью?
Всё, всё идёт к уничтоженью!
Прошло… что это значит? Всё равно,
Как если б вовсе не было оно…»
Нельзя, казалось бы, не заметить, что у Гёте именно ангельский хор является залогом возможного спасения Смысла, но именно этого Илья Ильич Мечников и не хочет замечать. А ведь понятия жизнь и свобода, ради которых следует каждый день идти на бой, обретают свой настоящий смысл только в том случае, если есть Бог!
Это основатель неоплатонизма Плотин так пренебрежительно относился к своему телу, чтоученики были вынуждены слушать его беседы на значительном расстоянии ввиду доносившегося от него смрада. Неоплатоники считали, что на определённом этапе аскетизма возможен даже крайний разврат, потому что это ещё больше убивает тело и освобождает душу. Христианство никогда не проповедовало таких крайностей. Христос проповедовал, прежде всего, предпочтительность внутренней, духовной жизни над внешними условностями. Внешняя значительность, если хотите, даже гигиеничность человека, не может иметь, по мнению Христа, никакого значения, если человек в своей внутренней жизни подобен «окрашенным гробам полным нечистотами» Отсутствие достаточного интереса к внутреннему человеку делает Мечникова неспособным понять и высоту христианского искусства. Народную религиозную живопись эпохи Каролингского возрождения Илья Ильич пытается сравнивать с реалистическим искусством эллинизма. Но он, вероятно, не знает, что эпоха Каролингского возрождения развивается в Западной Европе, после столетий пребывания культуры в варварском плену, и, что существовало прекрасное христианское искусство в той же Западной Европе в период до варварского разрушения, и, что Византию и Западную Европу IV и V веков ещё нельзя разделять в культурном отношении. Не знал господин Меньшиков и о придворной капелле Жерменьи де Пре, росписи которой были выполнены придворными мастерами Каролингского двора. Конечно, от этого времени почти ничего не сохранилось, но даже только миниатюры каролингских рукописей говорят нам о невероятном вкусе к истинной красоте у образованных людей того времени. Конечно, в конце XIX начале XX веков в России только лишь начинается процесс раскрытия и восприятия эпохи своего христианского возрождения. Тогда, в XIV – XV веках из-под кисти таких иконописцев как преподобный Андрей Рублёв, Дионисий или Феофан Грек рождались откровения неземной красоты, свидетельствующие о глубинах возможного проникновения не только во внутреннюю жизнь человека, но и за её пределы. Но И.И. Мечников к этим реальностям приобщён не был и всю свою жизнь оставался в рамках эмпирического эксперимента, заключив свою внутреннюю жизнь в золотую клетку реалистических традиций западного искусства. Мне почему-то кажется, что его убеждённость в том, что «человек, благодаря своей высокой культуре, в состоянии подготовить себе счастливое существование и бесстрашный конец»(с.239), сегодня выглядит, по меньшей мере, не осторожным. И это потому, что культура, которую пытается создавать человечество без оглядки на высший Смысл, становится замкнутым пространством, жизнь которого постепенно угасает, лишённая животворного воздействия внешней духовной энергии.
Однако, было бы совершенно не простительно делать из господина Мечникова безапелляционного учёного-оптимиста. В очень интересной и содержательной статье «Наука и нравственность» он пишет: «Я так мало убеждён в существовании каких-нибудь предначертаний природы для превращения наших бедствий в блага и дисгармоний в гармонии, что нисколько не удивился бы, если бы идеал этот никогда не был достигнут…» Далее учёный говорит, что ради сохранения вида в природе приносятся как бы в жертву интересы и само существование индивида, но это не спасает от абсолютного исчезновения даже самые высокоорганизованные виды существ. «Природа не пощадила их, — размышляет учёный, — почём знать, не готова ли она поступить также и по отношению к роду человеческому? Мы не можем постичь неведомого, его планов и намерений. Оставим же в стороне Природу и будем заниматься тем, что доступно нашему уму» В этих словах, по-моему, заключается весь смысл того, что есть агностицизм. От себя стоит только добавить, что уму нашему доступа и наша внутренняя жизнь и её опыт. Кроме того, эти размышления Мечникова довольно мимолётны. Всё же он находит в себе достаточно оптимизма, чтобы закончить статью на мажорной ноте: «…Человек способен на великие дела; вот почему следует желать, чтобы он видоизменил человеческую природу и превратил её дисгармонии в гармонии. Одна только воля человека может достичь этого идеала» (с.545). Куда же всё-таки должна быть направлена человеческая воля? Неужели только на то, чтобы каждый человек смог ощутить себя этаким сохранившим бодрость духа и здоровья стариканом, который устал от жизни и, потому ему не страшно умирать. Эпикур уже в своё время об этом, кажется, всё сказал. Но как сегодня мы знаем, он был больным человеком и боролся с собственными страхами перед страданиями и смертью…
Илья Ильич, как мы уже говорили не раз, был человеком своего рационалистического времени. Оно породило и Ницшеанство, и Большевизм, и Фашизм, и сегодняшний агрессивный Демократизм – и все эти опасные для самого существования человечества явления были обусловлены именно человеческой волей. Для меня как христианина, совершенно очевидно, что она нуждается в некоторой коррекции с той высшей Волей, которая обуславливает возможность существования Науки – Смыслом, заложенным в само бытие этого мира.
Особое значение для И.И. Мечникова имел образ великого Гёте, к бессмертному произведению которого «Фауст» он очень любил обращаться. В этом произведении его прежде всего интересовали вопросы, которые так или иначе соотносились с его собственным опытом жизни. Самоубийство, любовь, обретение смысла жизни в старости – это проблемы его собственных размышлений, которые он во что бы то ни стало пытался разрешить вне религиозного способа. Даже очевидный образ спасения Фауста от самоубийства звоном пасхальных колоколов Мечников пытается объяснить «детскими воспоминаниями» Его остро интересует старческая влюблённость Фауста и возможность применить это наполнение жизни не только к самому Гёте, который видел в веселящемся ребёнке Фауста и Елены чистую аллегорию, но и, вероятно, к себе.
Но особенный интерес вызывает, конечно, его поиск смысла жизни, который, как кажется, он находит в произведении Гёте. Перед своей смертью, как известно, Фауст начинает бурную деятельность на пользу человечеству, которое благодаря его подвигу сможет жить «Надеясь лишь на свой свободный труд» Для него высшим счастьем будет возможность увидеть свой народ «в блеске силы дивной»…
«Тогда сказал бы я: мгновенье!
Прекрасно ты, продлись, постой!
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной!»
Илья Ильич не хочет замечать усмешки Мефистофеля:
«Прошло и не было – равны между собой!
Что предстоит всему творенью?
Всё, всё идёт к уничтоженью!
Прошло… что это значит? Всё равно,
Как если б вовсе не было оно…»
Нельзя, казалось бы, не заметить, что у Гёте именно ангельский хор является залогом возможного спасения Смысла, но именно этого Илья Ильич Мечников и не хочет замечать. А ведь понятия жизнь и свобода, ради которых следует каждый день идти на бой, обретают свой настоящий смысл только в том случае, если есть Бог!











