
Первая лекция протоиерея Георгия Митрофанова на тему «История Церкви ХХ века сквозь призму личности Патриарха Тихона». В годовщину смерти святителя мы предлагаем нашим читателям текст этой лекции.
Предоставленное мне слово очень трудно начать произносить прежде всего потому, что даже сама формулировка нашей темы, хотя она и предполагает, в общем-то, достаточно парадоксальную постановку вопроса – «История Церкви ХХ века сквозь призму личности Патриарха Тихона», тем не менее, заставляет как-то сразу одних – насторожиться, а других – потерять интерес к теме. Ну что можно сказать о патриархе Тихоне, о котором сказано более, чем о многих других патриархах ХХ века, да к тому же он еще и канонизован? А канонизация, увы, нередко является для кого-то причиной, а для кого-то поводом, чтобы избавить себя от необходимого, как мне кажется, для каждого христианина труда всестороннего, подчас, может быть, критического осмысления личности того человека, который сыграл большую роль в нашей церковной жизни и канонизован как святой, но который, будучи святым, отнюдь не был безгрешным. Отнюдь не был непогрешимым, правильней было бы сказать, поскольку он занимал кафедру церковного первоиерарха. Более того, случилось так, что именно канонизация патриарха Тихона, которая произошла на сломе эпох, в период, когда мы вдруг неожиданно для себя ощутили причастность к возрождению святой Руси, канонизация именно этого Патриарха, ставшего одной из первых известных значительных жертв богоборческого режима, с которым, как нам казалось тогда, мы уже распрощались, вызвала к его личности какое-то особенно теплое отношение. Тем более что и сам-то он был человек для церковного иерарха весьма живой и свободный. И ему выпало бремя тяжелейшего испытания. Если мы ощутим его жизнь, его личность, как ношение этого бремени – бремени всего страшного ХХ века в истории русской Церкви, я думаю, что-то мы в нем поймем, воспримем гораздо лучше, чем это бывает, когда в полагающиеся протокольно-титульные дни поминовения святых мы вспоминаем того или иного нашего святителя. Не случайно, наверное, и день кончины-то его пришелся на праздник Благовещенья, как будто именно для того, чтобы мы более всего размышляли о нем вне контекста протокольных дней поминовения.Протоиерей Георгий Митрофанов – кандидат философских наук, магистр богословия, преподаватель истории Русской Церкви в Санкт-Петербургской духовной семинарии, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла при Академии Постдипломного Педагогического образования. Автор курсов по предметам «История Русской Церкви», «История России» в СПбДАиС, нескольких учебников и множества публикаций.
 А теперь начнем разговор о нем. Я ведь прекрасно понимаю, что моя задача облегчается, с одной стороны, тем, что вы знаете о нем более, чем о других Патриархах ХХ века, а с другой стороны, осложняется тем, что уже сложились определенные стереотипы. Поэтому пойдем просто путем, как мне кажется, живого размышления о нем в контексте русской церковной истории.
Итак, Василий Иванович Белавин… Я произнес его имя, отчество, и даже от этого сразу отдает чем-то таким нарочито народным. Русским, народным, почти что даже и не священническим.
Итак, носивший, впрочем, распространенную среди духовенства Псковской епархии фамилию Белавин, Василий Иванович родился 19 января 1865 года в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника.
Семья не была такой уж многодетной, но у него было трое братьев, и семья несла на себе традиционную печать нелегкой жизни русского провинциального духовенства, для которого существовал один-единственный путь к иной, более одухотворенной, более обеспеченной и более яркой жизни – образование. Поэтому судьба будущего Патриарха в этом плане была предрешена – Торопецкое духовное училище, ближайшее уездное училище к месту служения его отца, тем более что и сам отец вскоре стал служить в городе Торопце.
Вы знаете, это очень важный момент в его жизни. До тринадцати лет будущий Патриарх учится в Торопецком духовном училище, не отрываясь от своей семьи. Вот это поступление в духовное училище, неизбежный этап для получения образования в 8, 9, 10 лет, ознаменовало собой колоссальную духовную травму – отрыв от семьи. А семьи русского духовенства, как отмечали, например, авторы «Вех», были самыми здоровыми русскими семьями.
И вот отрыв от семьи в таком раннем возрасте, попадание в эту самую бурсу, как называлось духовное училище в просторечии, жизнь подчас даже не в общежитии, а на какой-нибудь съемной квартире у какого-нибудь маргинального персонажа – сапожника, ремесленника, часто пьющего, было временем, когда многие совсем еще юные отроки из таких одухотворенных, добрых священнических семей (таковые ведь бывали в немалом количестве по сравнению с семьями других наших сословий), которое наносило большую травму. Отсюда такое мрачное впечатление от бурсы: жесткая дисциплина, скудное питание и в общем и целом переживание отрыва от дома.
А теперь начнем разговор о нем. Я ведь прекрасно понимаю, что моя задача облегчается, с одной стороны, тем, что вы знаете о нем более, чем о других Патриархах ХХ века, а с другой стороны, осложняется тем, что уже сложились определенные стереотипы. Поэтому пойдем просто путем, как мне кажется, живого размышления о нем в контексте русской церковной истории.
Итак, Василий Иванович Белавин… Я произнес его имя, отчество, и даже от этого сразу отдает чем-то таким нарочито народным. Русским, народным, почти что даже и не священническим.
Итак, носивший, впрочем, распространенную среди духовенства Псковской епархии фамилию Белавин, Василий Иванович родился 19 января 1865 года в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника.
Семья не была такой уж многодетной, но у него было трое братьев, и семья несла на себе традиционную печать нелегкой жизни русского провинциального духовенства, для которого существовал один-единственный путь к иной, более одухотворенной, более обеспеченной и более яркой жизни – образование. Поэтому судьба будущего Патриарха в этом плане была предрешена – Торопецкое духовное училище, ближайшее уездное училище к месту служения его отца, тем более что и сам отец вскоре стал служить в городе Торопце.
Вы знаете, это очень важный момент в его жизни. До тринадцати лет будущий Патриарх учится в Торопецком духовном училище, не отрываясь от своей семьи. Вот это поступление в духовное училище, неизбежный этап для получения образования в 8, 9, 10 лет, ознаменовало собой колоссальную духовную травму – отрыв от семьи. А семьи русского духовенства, как отмечали, например, авторы «Вех», были самыми здоровыми русскими семьями.
И вот отрыв от семьи в таком раннем возрасте, попадание в эту самую бурсу, как называлось духовное училище в просторечии, жизнь подчас даже не в общежитии, а на какой-нибудь съемной квартире у какого-нибудь маргинального персонажа – сапожника, ремесленника, часто пьющего, было временем, когда многие совсем еще юные отроки из таких одухотворенных, добрых священнических семей (таковые ведь бывали в немалом количестве по сравнению с семьями других наших сословий), которое наносило большую травму. Отсюда такое мрачное впечатление от бурсы: жесткая дисциплина, скудное питание и в общем и целом переживание отрыва от дома.
 Вот это, к счастью, миновало Василия Ивановича. Он жил в семье, учился в училище. Может быть, отсюда его довольно гармоничная (как отмечали уже после 1878 года, когда он поступил в Псковскую духовную семинарию, его соученики по семинарии), цельная, спокойная, ровная, в меру, я бы даже сказал, светская натура, как его характеризовали тогда. И, вместе с тем, натура, пронизанная глубокой внутренней религиозностью, которая привела к тому, что, учась в семинарии, он получил прозвище «патриарх».
Нравы в семинарии всегда были довольно жесткими, постоянное натаскивание на благочестие, на необходимость являть учителям свою православную жизнь приводило к определенной реакции – к грубости, к употреблению, например, церковнославянских фраз исключительно в ироническом контексте вне богослужения. Соответственно, это всё сказывалось в прозвищах, которые давали друг другу семинаристы.
И вдруг прозвище «патриарх». Странное прозвище в устах семинаристов. Его даже ироническим невозможно считать. Было здесь какое-то признание именно семинаристами – самыми критически настроенными ко всем атрибутам церковности, казалось бы, молодыми людьми – внутреннего мира этого человека, этого, собственно, еще юноши, даже отрока.
Псковская духовная семинария была закончена довольно спокойно, без особых успехов и без особых неудач. А затем на долю Василия Ивановича Белавина выпало великое счастье – поступление в 1884 году в Санкт-Петербургскую духовную академию, в которой сначала инспектором, а потом ректором был архимандрит, а затем епископ Антоний Вадковский, а потом уже, в его ректорство, инспектором был архимандрит Михаил Грибановский, всем вам известный будущий епископ Таврический, один из самых светлых наших архиереев.
Вообще в нашей петербургской духовной школе этот период – период сначала инспекторства и ректорства Антония Вадковского, а затем уже период с 1898 года, когда он становится митрополитом Санкт-Петербургским, – один из самых плодотворных, самых ярких. Наша духовная академия, конечно, не была идеальной, но она была настолько плодовитой на достойных выпускников, что можно лишь поразиться этому. Это было одно из главных завоеваний владыки Антония Вадковского.
Вот это, к счастью, миновало Василия Ивановича. Он жил в семье, учился в училище. Может быть, отсюда его довольно гармоничная (как отмечали уже после 1878 года, когда он поступил в Псковскую духовную семинарию, его соученики по семинарии), цельная, спокойная, ровная, в меру, я бы даже сказал, светская натура, как его характеризовали тогда. И, вместе с тем, натура, пронизанная глубокой внутренней религиозностью, которая привела к тому, что, учась в семинарии, он получил прозвище «патриарх».
Нравы в семинарии всегда были довольно жесткими, постоянное натаскивание на благочестие, на необходимость являть учителям свою православную жизнь приводило к определенной реакции – к грубости, к употреблению, например, церковнославянских фраз исключительно в ироническом контексте вне богослужения. Соответственно, это всё сказывалось в прозвищах, которые давали друг другу семинаристы.
И вдруг прозвище «патриарх». Странное прозвище в устах семинаристов. Его даже ироническим невозможно считать. Было здесь какое-то признание именно семинаристами – самыми критически настроенными ко всем атрибутам церковности, казалось бы, молодыми людьми – внутреннего мира этого человека, этого, собственно, еще юноши, даже отрока.
Псковская духовная семинария была закончена довольно спокойно, без особых успехов и без особых неудач. А затем на долю Василия Ивановича Белавина выпало великое счастье – поступление в 1884 году в Санкт-Петербургскую духовную академию, в которой сначала инспектором, а потом ректором был архимандрит, а затем епископ Антоний Вадковский, а потом уже, в его ректорство, инспектором был архимандрит Михаил Грибановский, всем вам известный будущий епископ Таврический, один из самых светлых наших архиереев.
Вообще в нашей петербургской духовной школе этот период – период сначала инспекторства и ректорства Антония Вадковского, а затем уже период с 1898 года, когда он становится митрополитом Санкт-Петербургским, – один из самых плодотворных, самых ярких. Наша духовная академия, конечно, не была идеальной, но она была настолько плодовитой на достойных выпускников, что можно лишь поразиться этому. Это было одно из главных завоеваний владыки Антония Вадковского.
 Чтобы не говорить много об этом периоде, я просто назову ряд имен. Имея рядом с собой такого ректора, как епископ Антоний, такого инспектора, как архимандрит Михаил Грибановский, будущий Патриарх имел своими соучениками будущего митрополита Антония Храповицкого, будущего священномученика митрополита Кирилла Смирнова и будущего Патриарха советской эпохи Сергия Страгородского. Согласитесь, что при всем различии жизненных путей этих людей, это личности значительные, и таковыми они смогли стать во многом благодаря тому, что Господь сподобил их учиться в нашей духовной академии именно в этот период.
Учеба Василия Ивановича развивается опять-таки без особых взлетов и падений. Он вообще был спокойный, цельный, ровный человек, что даже как-то для русского поповича и странно. Справедливо отец Сергий Булгаков говорил, что, как правило, все духовно одаренные семинаристы должны были переживать духовные же и кризисы в семинарии. Вот нет у нас сведений, чтобы какой-то кризис переживал Василий Белавин.
Он довольно цельно и стабильно шел по семинарской и академической стезе. Правда, уж очень специфическое кандидатское сочинение он защитил: «Quesnel и его отношение к янсенизму» на кафедре истории и разбора западных исповеданий. Так это не вяжется с ним. Вы помните его облик: даже не епископ, и даже не священник, а крестьянин, да еще Василий Иванович – и янсенизм, за которым маячит величественная фигура мрачноватого Паскаля. Но, во всяком случае, французский язык он при этом освоил очень хорошо.
Когда наступил период окончания академии, он честно констатировал тот факт, что не сделал своего дальнейшего выбора, будет ли он священнослужителем (для этого надо было жениться) или монахом, а значит, архиереем.
Георгий Шавельский отмечал, что выпускнику академии, принимавшему монашеский сан, нужно было быть круглым дураком, чтобы через несколько лет не сделать успешную архиерейскую карьеру. Василий Белавин не принимает и монашество, а получает должность, в общем, естественную для выпускника академии, – он становится преподавателем провинциальной семинарии и с 1888 по 1891-й год преподает в родной Псковской семинарии французский язык.
И опять мы не встречаем здесь никаких катаклизмов. Всё идет очень ровно и спокойно. Именно таким путем – очень гармоничным и цельным – Василий Иванович приходит к убеждению, что ему должно быть всё-таки монахом.
Чтобы не говорить много об этом периоде, я просто назову ряд имен. Имея рядом с собой такого ректора, как епископ Антоний, такого инспектора, как архимандрит Михаил Грибановский, будущий Патриарх имел своими соучениками будущего митрополита Антония Храповицкого, будущего священномученика митрополита Кирилла Смирнова и будущего Патриарха советской эпохи Сергия Страгородского. Согласитесь, что при всем различии жизненных путей этих людей, это личности значительные, и таковыми они смогли стать во многом благодаря тому, что Господь сподобил их учиться в нашей духовной академии именно в этот период.
Учеба Василия Ивановича развивается опять-таки без особых взлетов и падений. Он вообще был спокойный, цельный, ровный человек, что даже как-то для русского поповича и странно. Справедливо отец Сергий Булгаков говорил, что, как правило, все духовно одаренные семинаристы должны были переживать духовные же и кризисы в семинарии. Вот нет у нас сведений, чтобы какой-то кризис переживал Василий Белавин.
Он довольно цельно и стабильно шел по семинарской и академической стезе. Правда, уж очень специфическое кандидатское сочинение он защитил: «Quesnel и его отношение к янсенизму» на кафедре истории и разбора западных исповеданий. Так это не вяжется с ним. Вы помните его облик: даже не епископ, и даже не священник, а крестьянин, да еще Василий Иванович – и янсенизм, за которым маячит величественная фигура мрачноватого Паскаля. Но, во всяком случае, французский язык он при этом освоил очень хорошо.
Когда наступил период окончания академии, он честно констатировал тот факт, что не сделал своего дальнейшего выбора, будет ли он священнослужителем (для этого надо было жениться) или монахом, а значит, архиереем.
Георгий Шавельский отмечал, что выпускнику академии, принимавшему монашеский сан, нужно было быть круглым дураком, чтобы через несколько лет не сделать успешную архиерейскую карьеру. Василий Белавин не принимает и монашество, а получает должность, в общем, естественную для выпускника академии, – он становится преподавателем провинциальной семинарии и с 1888 по 1891-й год преподает в родной Псковской семинарии французский язык.
И опять мы не встречаем здесь никаких катаклизмов. Всё идет очень ровно и спокойно. Именно таким путем – очень гармоничным и цельным – Василий Иванович приходит к убеждению, что ему должно быть всё-таки монахом.
 В ноябре 1891 года, то есть двадцати шести лет от роду, его постригает в монашество епископ Псковский Гермоген, и вскоре его рукополагают в сан иеродиакона и иеромонаха. Начинается новая стезя, предполагавшая не столько, естественно, приходское служение и даже не монастырское, а преподавательско-административную деятельность, с которой и начинали почти все наши архиереи. Перед нами очень типичный путь будущего архиерея.
Преподавание в Псковской духовной семинарии догматики и нравственного богословия, а затем с 1892 года – инспекторство в Холмской духовной семинарии, где он вскоре становится ректором с возведением в сан архимандрита. Холмщина – только что созданная административная единица в западном крае. Так выросший, сформировавшийся в исконно русских краях теперь уже архимандрит Тихон Белавин оказывается в местах, ему, в общем, этно-психологически и культурно-исторически чуждых, в местах весьма неблагополучных.
Как правило, католическое польское дворянство, как правило, православное, как сказали бы тогда, западнорусское крестьянство, доминирование в городах еврейской буржуазии, смешение разных этносов, разных конфессий. И ему приходится, учитывая всё это, осуществлять там свое служение. И, видимо, весьма благополучно, ибо, в общем-то, стабильно проходит его служение. Более того, происходит редко встречавшийся в те времена прецедент. 19 октября 1897 года, тридцати двух лет от роду, его рукополагают в сан епископа Люблинского.
Напомню, что канонический возраст поставления в епископа – тридцать пять лет, и в синодальную эпоху этого старались придерживаться. Рукополагают его, конечно, в Петербурге, в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, но в качестве викарного епископа Холмской епархии, молодой епархии, в которой, в общем и целом, пошатнулось традиционное православное благочестие, развитое в быту.
С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, но бытовое исповедничество часто было главной формой сохранения традиции в церковном русском христианстве, и вот такого рода благочестие там было поколеблено межрелигиозными конфликтами, унией и так далее. С этим нельзя было не считаться, там само духовенство очень часто жило в таком двойственном мире. А этот цельный русский, (великорусский, хочется сказать) по своему происхождению, по всей практически своей жизни священнослужитель умел находить здесь с разными людьми общий язык. Все отмечали его поразительную толерантность, всю жизнь характерный для него стиль общения с людьми с легкой доброжелательной иронией, иногда, впрочем, приобретавшей, как это бывает у великороссов, несколько мрачноватый, скептический оттенок.
Вот это его умение быть для всех всем, оставаясь, прежде всего, последовательным православным священнослужителем, видимо, и повлияло на то, что вскоре, 14 сентября 1898 года, его назначают уже правящим архиереем – епископом Алеутским и Аляскинским.
В ноябре 1891 года, то есть двадцати шести лет от роду, его постригает в монашество епископ Псковский Гермоген, и вскоре его рукополагают в сан иеродиакона и иеромонаха. Начинается новая стезя, предполагавшая не столько, естественно, приходское служение и даже не монастырское, а преподавательско-административную деятельность, с которой и начинали почти все наши архиереи. Перед нами очень типичный путь будущего архиерея.
Преподавание в Псковской духовной семинарии догматики и нравственного богословия, а затем с 1892 года – инспекторство в Холмской духовной семинарии, где он вскоре становится ректором с возведением в сан архимандрита. Холмщина – только что созданная административная единица в западном крае. Так выросший, сформировавшийся в исконно русских краях теперь уже архимандрит Тихон Белавин оказывается в местах, ему, в общем, этно-психологически и культурно-исторически чуждых, в местах весьма неблагополучных.
Как правило, католическое польское дворянство, как правило, православное, как сказали бы тогда, западнорусское крестьянство, доминирование в городах еврейской буржуазии, смешение разных этносов, разных конфессий. И ему приходится, учитывая всё это, осуществлять там свое служение. И, видимо, весьма благополучно, ибо, в общем-то, стабильно проходит его служение. Более того, происходит редко встречавшийся в те времена прецедент. 19 октября 1897 года, тридцати двух лет от роду, его рукополагают в сан епископа Люблинского.
Напомню, что канонический возраст поставления в епископа – тридцать пять лет, и в синодальную эпоху этого старались придерживаться. Рукополагают его, конечно, в Петербурге, в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, но в качестве викарного епископа Холмской епархии, молодой епархии, в которой, в общем и целом, пошатнулось традиционное православное благочестие, развитое в быту.
С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, но бытовое исповедничество часто было главной формой сохранения традиции в церковном русском христианстве, и вот такого рода благочестие там было поколеблено межрелигиозными конфликтами, унией и так далее. С этим нельзя было не считаться, там само духовенство очень часто жило в таком двойственном мире. А этот цельный русский, (великорусский, хочется сказать) по своему происхождению, по всей практически своей жизни священнослужитель умел находить здесь с разными людьми общий язык. Все отмечали его поразительную толерантность, всю жизнь характерный для него стиль общения с людьми с легкой доброжелательной иронией, иногда, впрочем, приобретавшей, как это бывает у великороссов, несколько мрачноватый, скептический оттенок.
Вот это его умение быть для всех всем, оставаясь, прежде всего, последовательным православным священнослужителем, видимо, и повлияло на то, что вскоре, 14 сентября 1898 года, его назначают уже правящим архиереем – епископом Алеутским и Аляскинским.
 Когда приходится рассказывать семинаристам о пути будущего Патриарха, это назначение у многих вызывает оживление: как это здорово, в общем-то, в еще молодом возрасте ощутить себя несущим служение в таких экзотических местах! А между тем что получил в свое распоряжение епископ Тихон? Он получил епархию, которая, в общем, шла по пути постепенного вырождения, ибо русская церковная жизнь в США угасала, и спасти и преобразить эту епархию, сохранить эту епархию можно было лишь путем радикальных преобразований.
И вот он, имевший, повторяю, опыт общения с разноконфессиональными полиэтническими общинами (надо сказать, что на Холмщине его духовный авторитет признавали не только католики, но и иудеи), отправляется теперь в Америку. Конечно, очень быстро он обнаруживает, что исконно русские когда-то земли (у нас сейчас исконно русской можно назвать любую землю, где когда-то стояла нога православного русского человека, например, Северную Калифорнию, Алеутские острова, Аляску), в общем и целом, оказываются периферией. Да, там есть православные люди, но собственно русских становится всё меньше и меньше. А православных в Америке становится всё больше и больше.
Но направляются они, в основном, не на Аляску и даже не в Калифорнию, а через северо-восток наполняют собой Средний Запад, например; Нью-Йорк и Чикаго, а не Алеутские острова и Аляска, становятся местами пребывания православных, но в большинстве своем отнюдь не русских американцев. И вот он очень быстро переносит центр своего внимания на северо-восток, переводит кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк. С 1900-го года епархия начинает называться уже не Алеутско-Аляскинской, а Алеутской и Северо-Американской.
Но самое главное другое – он открывает для себя совершенно иную перспективу приходской и епархиальной жизни, чем та, которая ожидала его в России, которая была уже ему знакома по служению на Холмщине.
Он попадает в условия страны величайшей веротерпимости, в которой очень последовательно с самого начала Церковь отделена от государства, а уж Русская Православная Церковь воспринимается даже более экзотически, чем какая-нибудь мормонская секта, как что-то совершенно чуждое, незнакомое, но имеющее все гарантии любой конфессии США. Ведь мы с вами помним, что даже готовые истреблять католиков в Англии пуритане в XVII веке, попадая в Америку, строили свои отношения с католиками, попадавшими туда же, не так, как в Англии, – на американской земле все должны быть свободны и исповедовать свою веру так, как считают нужным. Отсюда штат Мэриленд, немыслимый на территории Британии.
Православные прошли через этот опыт, через этот, наверное, очень впечатляющий, искусительный опыт США. Ты полностью свободен, свободен даже жить или умереть, сохраниться или исчезнуть – всё зависит от тебя. Ведь это было очень незнакомо для священнослужителя, сформировавшегося в рамках жесткой синодальной системы, где даже ассигнования на епархиальные нужды, самые подчас обыденные, должны были согласовываться с Синодом, проходить через бюрократию, а здесь всё было так, как, кстати, будет в условиях будущего русского зарубежья.
Есть группа православных мирян, которым нужен приход. Они его организуют, а твоя задача – поддержать их, обеспечить их священнослужителем и делать всё, чтобы эта приходская община не погасла. Это соответствует принципам американского законодательства, которое предполагает именно вот эту самую активную приходскую, общинную жизнь, которую принимают в расчет, так сказать, бюрократические органы в этой стране.
Напомню вам, что в Русской Православной Церкви, или в Православной Российской Церкви, как она тогда называлась, приходы не имели даже права собственности и права юридического лица. И вот эта поразительная необходимость жить в условиях децентрализации, в условиях, когда нужно поддерживать инициативу, идущую снизу, побуждает епископа Тихона резко изменить свой стиль поведения. Он не просто посещает приходы. Он входит в приходскую жизнь, он очень внимательно подходит к назначению священников. Священников мало. Чаще всего это русские священники, священники из России, многие из которых как тягостное испытание воспринимают свое служение в Америке, пожив там несколько лет.
Когда приходится рассказывать семинаристам о пути будущего Патриарха, это назначение у многих вызывает оживление: как это здорово, в общем-то, в еще молодом возрасте ощутить себя несущим служение в таких экзотических местах! А между тем что получил в свое распоряжение епископ Тихон? Он получил епархию, которая, в общем, шла по пути постепенного вырождения, ибо русская церковная жизнь в США угасала, и спасти и преобразить эту епархию, сохранить эту епархию можно было лишь путем радикальных преобразований.
И вот он, имевший, повторяю, опыт общения с разноконфессиональными полиэтническими общинами (надо сказать, что на Холмщине его духовный авторитет признавали не только католики, но и иудеи), отправляется теперь в Америку. Конечно, очень быстро он обнаруживает, что исконно русские когда-то земли (у нас сейчас исконно русской можно назвать любую землю, где когда-то стояла нога православного русского человека, например, Северную Калифорнию, Алеутские острова, Аляску), в общем и целом, оказываются периферией. Да, там есть православные люди, но собственно русских становится всё меньше и меньше. А православных в Америке становится всё больше и больше.
Но направляются они, в основном, не на Аляску и даже не в Калифорнию, а через северо-восток наполняют собой Средний Запад, например; Нью-Йорк и Чикаго, а не Алеутские острова и Аляска, становятся местами пребывания православных, но в большинстве своем отнюдь не русских американцев. И вот он очень быстро переносит центр своего внимания на северо-восток, переводит кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк. С 1900-го года епархия начинает называться уже не Алеутско-Аляскинской, а Алеутской и Северо-Американской.
Но самое главное другое – он открывает для себя совершенно иную перспективу приходской и епархиальной жизни, чем та, которая ожидала его в России, которая была уже ему знакома по служению на Холмщине.
Он попадает в условия страны величайшей веротерпимости, в которой очень последовательно с самого начала Церковь отделена от государства, а уж Русская Православная Церковь воспринимается даже более экзотически, чем какая-нибудь мормонская секта, как что-то совершенно чуждое, незнакомое, но имеющее все гарантии любой конфессии США. Ведь мы с вами помним, что даже готовые истреблять католиков в Англии пуритане в XVII веке, попадая в Америку, строили свои отношения с католиками, попадавшими туда же, не так, как в Англии, – на американской земле все должны быть свободны и исповедовать свою веру так, как считают нужным. Отсюда штат Мэриленд, немыслимый на территории Британии.
Православные прошли через этот опыт, через этот, наверное, очень впечатляющий, искусительный опыт США. Ты полностью свободен, свободен даже жить или умереть, сохраниться или исчезнуть – всё зависит от тебя. Ведь это было очень незнакомо для священнослужителя, сформировавшегося в рамках жесткой синодальной системы, где даже ассигнования на епархиальные нужды, самые подчас обыденные, должны были согласовываться с Синодом, проходить через бюрократию, а здесь всё было так, как, кстати, будет в условиях будущего русского зарубежья.
Есть группа православных мирян, которым нужен приход. Они его организуют, а твоя задача – поддержать их, обеспечить их священнослужителем и делать всё, чтобы эта приходская община не погасла. Это соответствует принципам американского законодательства, которое предполагает именно вот эту самую активную приходскую, общинную жизнь, которую принимают в расчет, так сказать, бюрократические органы в этой стране.
Напомню вам, что в Русской Православной Церкви, или в Православной Российской Церкви, как она тогда называлась, приходы не имели даже права собственности и права юридического лица. И вот эта поразительная необходимость жить в условиях децентрализации, в условиях, когда нужно поддерживать инициативу, идущую снизу, побуждает епископа Тихона резко изменить свой стиль поведения. Он не просто посещает приходы. Он входит в приходскую жизнь, он очень внимательно подходит к назначению священников. Священников мало. Чаще всего это русские священники, священники из России, многие из которых как тягостное испытание воспринимают свое служение в Америке, пожив там несколько лет.
 Парадоксальное явление в сравнении со священниками советского времени, которые, подобно советским журналистам, мечтали оставаться подольше на бездуховном гниющем Западе. Русские священники той поры стремились в Россию. Не потому, что она казалась им такой уж духовной, а потому, что это была страна, которую жалко было покидать, в которой священнику – православному, традиционному – было гораздо легче, чем в заморских краях. С такими священниками было сложно работать, сложно было что-то созидать со священниками-временщиками. При этом очень часто между ними и паствой возникали языковые барьеры.
Да, процесс перевода богослужения на английский язык начался еще до епископа Тихона. Но, как полагается в Православной Церкви, шел он очень медленно, с оглядкой на синодальное начальство, с нежеланием признать, что Православная Церковь в Америке либо перестанет быть русской, став Церковью англоязычных американцев православного вероисповедания, либо просто прекратит свое существование. Епископ Тихон очень хорошо это понял. И изначально его курс был направлен на то, чтобы его Алеутская и Северо-Американская епархия в перспективе превратилась из русской епархии, епархии русской Церкви, в Церковь православных американцев.
Это было очень радикально. И это было правильно. Я напомню вам, что пройдут десятилетия, и отец Георгий Флоровский, а потом отец Александр Шмеман будут вести баталии по поводу того, какой же должна быть Церковь в Америке – привязанной к русской традиции или всё-таки Церковью православных американцев.
Епископу Тихону нужно принять очень нестандартные, неординарные решения. И он их принимает. Завершается перевод богослужений на английский язык, он добивается решения Синода о получении себе викарных епископов по этническому принципу, даже епископа, как говорили тогда, сира араба, то есть православные арабы в Америке тоже есть.
Он вообще мыслит будущую Церковь как Церковь разноплеменную, в которой будет группа викарных епископов сербского, греческого, румынского, арабского происхождения, которые будут окормлять соответствующие православные диаспоры. И это, конечно, перспектива действительно очень широкого будущего развития нашей епархии в Церковь поместную. Он добивается того, что наряду с храмами в Америке появляются первые монастыри, в Миннеаполисе открываются семинарии, которые, впрочем, просуществуют только до 1920-х годов.
Его деятельность будет всегда ориентирована на активную миссионерско-катехизаторскую работу. Это приведет к возвращению в Православную Церковь нескольких десятков тысяч униатов-карпатороссов. Это была тоже очень интересная ситуация, когда приезжавшие в Америку русинские грекокатолики сталкивались с глубинным непониманием того, кто они такие, со стороны доминировавших в Америке в тот момент ирландских епископов и священников, которые не вмещали в свое сознание такое понятие как уния. Епископ Тихон воспользовался этой ситуацией и предложил им в американском стиле, совершенно свободно сделать свой выбор, и они сделали свой выбор в пользу Православия.
Парадоксальное явление в сравнении со священниками советского времени, которые, подобно советским журналистам, мечтали оставаться подольше на бездуховном гниющем Западе. Русские священники той поры стремились в Россию. Не потому, что она казалась им такой уж духовной, а потому, что это была страна, которую жалко было покидать, в которой священнику – православному, традиционному – было гораздо легче, чем в заморских краях. С такими священниками было сложно работать, сложно было что-то созидать со священниками-временщиками. При этом очень часто между ними и паствой возникали языковые барьеры.
Да, процесс перевода богослужения на английский язык начался еще до епископа Тихона. Но, как полагается в Православной Церкви, шел он очень медленно, с оглядкой на синодальное начальство, с нежеланием признать, что Православная Церковь в Америке либо перестанет быть русской, став Церковью англоязычных американцев православного вероисповедания, либо просто прекратит свое существование. Епископ Тихон очень хорошо это понял. И изначально его курс был направлен на то, чтобы его Алеутская и Северо-Американская епархия в перспективе превратилась из русской епархии, епархии русской Церкви, в Церковь православных американцев.
Это было очень радикально. И это было правильно. Я напомню вам, что пройдут десятилетия, и отец Георгий Флоровский, а потом отец Александр Шмеман будут вести баталии по поводу того, какой же должна быть Церковь в Америке – привязанной к русской традиции или всё-таки Церковью православных американцев.
Епископу Тихону нужно принять очень нестандартные, неординарные решения. И он их принимает. Завершается перевод богослужений на английский язык, он добивается решения Синода о получении себе викарных епископов по этническому принципу, даже епископа, как говорили тогда, сира араба, то есть православные арабы в Америке тоже есть.
Он вообще мыслит будущую Церковь как Церковь разноплеменную, в которой будет группа викарных епископов сербского, греческого, румынского, арабского происхождения, которые будут окормлять соответствующие православные диаспоры. И это, конечно, перспектива действительно очень широкого будущего развития нашей епархии в Церковь поместную. Он добивается того, что наряду с храмами в Америке появляются первые монастыри, в Миннеаполисе открываются семинарии, которые, впрочем, просуществуют только до 1920-х годов.
Его деятельность будет всегда ориентирована на активную миссионерско-катехизаторскую работу. Это приведет к возвращению в Православную Церковь нескольких десятков тысяч униатов-карпатороссов. Это была тоже очень интересная ситуация, когда приезжавшие в Америку русинские грекокатолики сталкивались с глубинным непониманием того, кто они такие, со стороны доминировавших в Америке в тот момент ирландских епископов и священников, которые не вмещали в свое сознание такое понятие как уния. Епископ Тихон воспользовался этой ситуацией и предложил им в американском стиле, совершенно свободно сделать свой выбор, и они сделали свой выбор в пользу Православия.
 Епископ Тихон инициирует разработку нового приходского устава, нового определения епархиального управления, направляет это в Синод. Синод, в общем, положительно оценивает эти его решения, и в 1905 году он даже возводится в сан архиепископа. Но что особенно примечательно, вы помните, что в 1905 году начинается активная работа по подготовке Поместного Собора: отзывы епархиальных архиереев, в которых предлагается широкий перечень церковных преобразований, затем работа предсоборного присутствия в 1906 году.
Да, эта работа оказывается тщетной, Собор соберут лишь через одиннадцать лет. Но хочу обратить ваше внимание, что написавший довольно радикальные отзывы по поводу возможности церковных преобразований епископ Тихон, не дожидаясь Собора, в своей епархии проводит некоторые реформы, о которых говорили тогда русские епископы.
В частности, тот приходской устав в его епархии, который принимается с благословения, естественно, Синода, оказывается очень приближенным к будущему приходскому уставу, который будет принят на Поместном Соборе 1917-1918-го года. Он уже живет, по существу, в церковной жизни, в которой многое из того, что предпишет Русской Церкви Поместный Собор 1917-1918-го года, будет реализовываться, в частности, в Церкви, где активные миряне и в достаточной степени тоже активное духовенство созидают церковную жизнь не сверху, а снизу без всякого участия государства. Причем он не первый ведь был русский епископ в Америке и не последний, но такого оживления в жизни епархии не было до него, да и не будет долгое время после него.
Он проводит Собор в своей епархии. Проводит, опять-таки, Соборы, которые не проводились в православных российских епархиях. В 1907 году собирается (вдумайтесь в это!) Собор Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке. Вот такое название появляется, явно призывающее идти в эту Церковь всех православных американцев, в том числе, вероятно, и униатов. И всё это с согласия Синода.
В результате, перед его оставлением епархии в ней насчитываться будет сто приходов, даже больше ста приходов, сто тринадцать приходских школ (что было особенно важно в той ситуации), четыре журнала на разных языках и почти полмиллиона прихожан. Епископ Тихон назначается 24 апреля 1907-го года на Ярославскую кафедру.
Но этот его период пребывания в Америке делает его, в каком-то смысле слова, уникальным епископом среди наших архиереев. Он приобретает опыт осуществления своего служения в условиях несколько иной государственности, нежели та, которая была в Российской империи, в условиях, когда Церковь не могла рассчитывать на какую бы то ни было поддержку государства, а вы знаете, как у нас любят административный ресурс все, в том числе, и священнослужители на разных уровнях.
Он пережил опыт жизни без этого ресурса и достиг, может быть, куда больших успехов, чем это могло бы быть при наличии такого ресурса. Но, конечно, его тянуло в Россию, и, конечно, назначение на Ярославскую кафедру, одну из самых выдающихся кафедр, было своеобразным увенчанием его трудов, с точки зрения карьерного роста.
Епископ Тихон инициирует разработку нового приходского устава, нового определения епархиального управления, направляет это в Синод. Синод, в общем, положительно оценивает эти его решения, и в 1905 году он даже возводится в сан архиепископа. Но что особенно примечательно, вы помните, что в 1905 году начинается активная работа по подготовке Поместного Собора: отзывы епархиальных архиереев, в которых предлагается широкий перечень церковных преобразований, затем работа предсоборного присутствия в 1906 году.
Да, эта работа оказывается тщетной, Собор соберут лишь через одиннадцать лет. Но хочу обратить ваше внимание, что написавший довольно радикальные отзывы по поводу возможности церковных преобразований епископ Тихон, не дожидаясь Собора, в своей епархии проводит некоторые реформы, о которых говорили тогда русские епископы.
В частности, тот приходской устав в его епархии, который принимается с благословения, естественно, Синода, оказывается очень приближенным к будущему приходскому уставу, который будет принят на Поместном Соборе 1917-1918-го года. Он уже живет, по существу, в церковной жизни, в которой многое из того, что предпишет Русской Церкви Поместный Собор 1917-1918-го года, будет реализовываться, в частности, в Церкви, где активные миряне и в достаточной степени тоже активное духовенство созидают церковную жизнь не сверху, а снизу без всякого участия государства. Причем он не первый ведь был русский епископ в Америке и не последний, но такого оживления в жизни епархии не было до него, да и не будет долгое время после него.
Он проводит Собор в своей епархии. Проводит, опять-таки, Соборы, которые не проводились в православных российских епархиях. В 1907 году собирается (вдумайтесь в это!) Собор Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке. Вот такое название появляется, явно призывающее идти в эту Церковь всех православных американцев, в том числе, вероятно, и униатов. И всё это с согласия Синода.
В результате, перед его оставлением епархии в ней насчитываться будет сто приходов, даже больше ста приходов, сто тринадцать приходских школ (что было особенно важно в той ситуации), четыре журнала на разных языках и почти полмиллиона прихожан. Епископ Тихон назначается 24 апреля 1907-го года на Ярославскую кафедру.
Но этот его период пребывания в Америке делает его, в каком-то смысле слова, уникальным епископом среди наших архиереев. Он приобретает опыт осуществления своего служения в условиях несколько иной государственности, нежели та, которая была в Российской империи, в условиях, когда Церковь не могла рассчитывать на какую бы то ни было поддержку государства, а вы знаете, как у нас любят административный ресурс все, в том числе, и священнослужители на разных уровнях.
Он пережил опыт жизни без этого ресурса и достиг, может быть, куда больших успехов, чем это могло бы быть при наличии такого ресурса. Но, конечно, его тянуло в Россию, и, конечно, назначение на Ярославскую кафедру, одну из самых выдающихся кафедр, было своеобразным увенчанием его трудов, с точки зрения карьерного роста.
 Пребывание архиепископа Тихона на Ярославской кафедре было, в общем-то, не таким уж продолжительным, хотя по тем временам шесть с половиной лет – это всё-таки немалый срок. Я бы хотел обратить внимание на несколько деталей, характерных для него. Ярославская епархия, одна из почтенных, одна из церковно-культурных общественно благополучных, была богатая, с традициями довольно значительными.
Но он удивляет свое духовенство нарочитым желанием посещать приходы, даже где всё благополучно, даже тогда, когда сам настоятель готов приехать к нему с дарами, которые почему-то архиепископ Тихон не склонен принимать. Он приезжает сам, чтобы увидеть то, что происходит в епархии. И ездит он как-то не так, как привыкли, без особого почтения к собственному сану и запрещает священнослужителям полагать перед ним три земных поклона при входе в его кабинет.
Некоторые даже говорят о том, что какой-то странный приехал епископ из Америки, не чтит собственный сан должным образом. А он довольно активен, довольно демократичен. И это на фоне того, что его, как принято было в тех условиях, делают почетным председателем местного отделения Союза русского народа, что потом, уже в советское время, будет постоянно ему инкриминироваться.
Но вот, знаете, поражаешься тому, насколько часто все эти наши массовые политические организации зачисляют в свои ряды тех, кто ментально им совершенно чужд. Ведь уже тогда архиепископ Тихон в совершенно ином русле развивался, нежели те архиереи, которые, подобно, например, Антонию Храповицкому или Серафиму Чичагову, были активными членами Союза русского народа. Он был совершенно иного качества архиерей. И тем не менее…
Зато примечательно то, что у него возникают дружеские отношения с викарным епископом Рыбинским Иосифом Петровых, а келейником его становится иеромонах Серафим Самойлович. Сочетание двух этих имен очень выразительно, они – одни из главных будущих оппонентов митрополита Сергия Страгородского. Не склонный, вроде бы, к большому ригоризму архиепископ Тихон находит в этих двух ригористах (особенно Иосифа Петровых таковым можно признать) людей, ему духовно близких.
А дальше – историческое, можно сказать, назначение в виде рокировки. 3 января 1914-го года архиепископа Тихона назначают на Литовскую и Виленскую кафедру, а на его Ярославскую кафедру назначают Виленского и Литовского архиепископа Агафангела Преображенского. И вот происходит встреча этих двух епископов в условиях, скажем, не очень благоприятных с точки зрения привычных традиций церковно-административной деятельности.
Как должен относиться новый епископ, приехавший в новую для него епархию к своему предшественнику? Естественно, критически. Очевидно, что до него было хуже, чем будет при нем. А вот здесь ничего подобного не произошло. Эти два епископа, которые служили в столь различных епархиях, и епархии-то друг друга восприняли очень как-то живо, но самое главное – друг друга восприняли не как конкурентов, а как соработников.
Они были очень разные люди. На фоне епископа Тихона Агафангел Преображенский казался таким, я бы сказал, сибаритом, причем с крайне либеральными взглядами. И вместе с тем (будущее это покажет) их приязнь друг к другу была обоснована видением друг в друге тех, кто действительно мог положиться один на другого в критический момент (о чем тогда явно никто из них и не предполагал). Вы же помните, что Агафангел Преображенский не просто станет одним из местоблюстителей, а в критический момент 1922-го года предложит Церкви такой же радикальный путь существования, какой предложил Северо-Американской епархии епископ Тихон.
Пребывание архиепископа Тихона на Ярославской кафедре было, в общем-то, не таким уж продолжительным, хотя по тем временам шесть с половиной лет – это всё-таки немалый срок. Я бы хотел обратить внимание на несколько деталей, характерных для него. Ярославская епархия, одна из почтенных, одна из церковно-культурных общественно благополучных, была богатая, с традициями довольно значительными.
Но он удивляет свое духовенство нарочитым желанием посещать приходы, даже где всё благополучно, даже тогда, когда сам настоятель готов приехать к нему с дарами, которые почему-то архиепископ Тихон не склонен принимать. Он приезжает сам, чтобы увидеть то, что происходит в епархии. И ездит он как-то не так, как привыкли, без особого почтения к собственному сану и запрещает священнослужителям полагать перед ним три земных поклона при входе в его кабинет.
Некоторые даже говорят о том, что какой-то странный приехал епископ из Америки, не чтит собственный сан должным образом. А он довольно активен, довольно демократичен. И это на фоне того, что его, как принято было в тех условиях, делают почетным председателем местного отделения Союза русского народа, что потом, уже в советское время, будет постоянно ему инкриминироваться.
Но вот, знаете, поражаешься тому, насколько часто все эти наши массовые политические организации зачисляют в свои ряды тех, кто ментально им совершенно чужд. Ведь уже тогда архиепископ Тихон в совершенно ином русле развивался, нежели те архиереи, которые, подобно, например, Антонию Храповицкому или Серафиму Чичагову, были активными членами Союза русского народа. Он был совершенно иного качества архиерей. И тем не менее…
Зато примечательно то, что у него возникают дружеские отношения с викарным епископом Рыбинским Иосифом Петровых, а келейником его становится иеромонах Серафим Самойлович. Сочетание двух этих имен очень выразительно, они – одни из главных будущих оппонентов митрополита Сергия Страгородского. Не склонный, вроде бы, к большому ригоризму архиепископ Тихон находит в этих двух ригористах (особенно Иосифа Петровых таковым можно признать) людей, ему духовно близких.
А дальше – историческое, можно сказать, назначение в виде рокировки. 3 января 1914-го года архиепископа Тихона назначают на Литовскую и Виленскую кафедру, а на его Ярославскую кафедру назначают Виленского и Литовского архиепископа Агафангела Преображенского. И вот происходит встреча этих двух епископов в условиях, скажем, не очень благоприятных с точки зрения привычных традиций церковно-административной деятельности.
Как должен относиться новый епископ, приехавший в новую для него епархию к своему предшественнику? Естественно, критически. Очевидно, что до него было хуже, чем будет при нем. А вот здесь ничего подобного не произошло. Эти два епископа, которые служили в столь различных епархиях, и епархии-то друг друга восприняли очень как-то живо, но самое главное – друг друга восприняли не как конкурентов, а как соработников.
Они были очень разные люди. На фоне епископа Тихона Агафангел Преображенский казался таким, я бы сказал, сибаритом, причем с крайне либеральными взглядами. И вместе с тем (будущее это покажет) их приязнь друг к другу была обоснована видением друг в друге тех, кто действительно мог положиться один на другого в критический момент (о чем тогда явно никто из них и не предполагал). Вы же помните, что Агафангел Преображенский не просто станет одним из местоблюстителей, а в критический момент 1922-го года предложит Церкви такой же радикальный путь существования, какой предложил Северо-Американской епархии епископ Тихон.
 Пребывание в Виленской и Литовской епархии архиепископа Тихона было непродолжительным. События Первой мировой войны, эвакуация в Москву. И вот здесь он опять попал в ситуацию, очень нетипичную для архиерея синодальной эпохи. Лишенный своей епархии, лишенный обязанности осуществлять очень большую, обременительную административную работу, архиепископ Тихон занялся тем, чем обычно епископы довольно быстро переставали заниматься, – он занялся пастырской деятельностью.
Он служил, проповедовал в Москве. Да, некоторое время он был присутствующим членом Синода, но при этом, прежде всего, служил и проповедовал. И постепенно он приобрел в Москве, на фоне, в общем, почтенного, но уже совершенно недееспособного митрополита Макария Невского, авторитет выдающегося архипастыря.
А надо вам сказать, что и сейчас, конечно, московская паства претенциозна, но претензии на чьем опыте основаны? Я не знаю. А тогда великая княгиня Елизавета Федоровна, бывший обер-прокурор Самарин и другие такого рода люди задавали тон московской церковной общественности. Да к тому же не забудем характерный статус Москвы во всем быть оппозиционной Петербургу – что в политическом плане, что в плане церковном.
И вот этот провинциальный, как кажется, епископ вдруг обращает на себя взоры московской паствы как именно пастырь. Не как администратор, не как богослов, а именно как пастырь. Для него это был еще один опыт – опыт, связанный с тем, что уже и в Америке для него, в силу обстоятельств, пастырское служение стало составной частью служения епископа. Епископ-пастырь – это, вообще-то, большая диковина для Церкви синодального периода. Ибо та среда (и не только между мирянами и епископом, но и между духовенством и епископом), которая формировалась у нас веками, в синодальный период, увы, никуда не делась.
Ну, а далее что можно сказать о его деятельности? 1917-й год. Подобно всем назначенным еще при Государе членам Синода, он покидает его состав. Показательно, что из всего состава Святейшего Синода, который был назначен Государем и впоследствии весной изменен демократизирующим, так сказать, Церковь обер-прокурором Владимиром Николаевичем Львовым, только архиепископ Финляндский Сергий Страгородский органично перетек в Синод революционный.
А Тихон оказался, подобно другим, вне его, но в той же самой Москве, в которой его уже знали. И в результате этот эвакуированный Виленский и Литовский архиепископ во время выборов архиереев в епархиях съездом духовенства и мирян Московской епархии избирается 19 июня 1917-го года в московские архиереи.
Пребывание в Виленской и Литовской епархии архиепископа Тихона было непродолжительным. События Первой мировой войны, эвакуация в Москву. И вот здесь он опять попал в ситуацию, очень нетипичную для архиерея синодальной эпохи. Лишенный своей епархии, лишенный обязанности осуществлять очень большую, обременительную административную работу, архиепископ Тихон занялся тем, чем обычно епископы довольно быстро переставали заниматься, – он занялся пастырской деятельностью.
Он служил, проповедовал в Москве. Да, некоторое время он был присутствующим членом Синода, но при этом, прежде всего, служил и проповедовал. И постепенно он приобрел в Москве, на фоне, в общем, почтенного, но уже совершенно недееспособного митрополита Макария Невского, авторитет выдающегося архипастыря.
А надо вам сказать, что и сейчас, конечно, московская паства претенциозна, но претензии на чьем опыте основаны? Я не знаю. А тогда великая княгиня Елизавета Федоровна, бывший обер-прокурор Самарин и другие такого рода люди задавали тон московской церковной общественности. Да к тому же не забудем характерный статус Москвы во всем быть оппозиционной Петербургу – что в политическом плане, что в плане церковном.
И вот этот провинциальный, как кажется, епископ вдруг обращает на себя взоры московской паствы как именно пастырь. Не как администратор, не как богослов, а именно как пастырь. Для него это был еще один опыт – опыт, связанный с тем, что уже и в Америке для него, в силу обстоятельств, пастырское служение стало составной частью служения епископа. Епископ-пастырь – это, вообще-то, большая диковина для Церкви синодального периода. Ибо та среда (и не только между мирянами и епископом, но и между духовенством и епископом), которая формировалась у нас веками, в синодальный период, увы, никуда не делась.
Ну, а далее что можно сказать о его деятельности? 1917-й год. Подобно всем назначенным еще при Государе членам Синода, он покидает его состав. Показательно, что из всего состава Святейшего Синода, который был назначен Государем и впоследствии весной изменен демократизирующим, так сказать, Церковь обер-прокурором Владимиром Николаевичем Львовым, только архиепископ Финляндский Сергий Страгородский органично перетек в Синод революционный.
А Тихон оказался, подобно другим, вне его, но в той же самой Москве, в которой его уже знали. И в результате этот эвакуированный Виленский и Литовский архиепископ во время выборов архиереев в епархиях съездом духовенства и мирян Московской епархии избирается 19 июня 1917-го года в московские архиереи.
 Я скажу несколько слов об этой практике избрания архиереев съездами духовенства и мирян. По существу, наверно, это правильно, хотя я не представляю, как бы это могло быть успешно реализовано, например, сейчас у нас при том уровне сознания наших мирян, да отчасти и духовенства, которое имеет место.
Но примечательно, что в тот период между февралем и октябрем 1917-го года, когда значительная часть нашего православного по формальному вероисповеданию населения занималась черным переделом земли, разваливала армию, в общем, разрушала страну, совершенно не думая о церковной жизни, малая часть наших православных христиан, тех, для которых и в этих условиях церковная жизнь была чем-то значимым, активно и осознанно участвовала и в приходских собраниях, и в благочиннических, и в епархиальных съездах. Поэтому выбирали архиереев люди вполне осознанно. И выбор их был, как правило, очень правильным.
В связи с этим не могу не провести определенного рода сравнение. Я вам говорил о соучениках патриарха Тихона будущих митрополите Антонии Храповицком и патриархе Сергии Страгородском. Они ведь тоже участвовали в этих выборах, но какими разными были обстоятельства их участия. Временное правительство вынудило Синод отправить ряд епископов на покой.
На покой был отправлен (формально как распутинец, а реально как просто правый монархист) архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий. Он, как человек не поповского, а дворянского происхождения, был не только готов со смирением вновь устремиться на епископскую кафедру, а готов был не возвращаться на нее. Ибо дворянская гордость подчас превалировала над клерикальным карьерным смирением. Он затворился в Валаамском монастыре по приглашению архиепископа Финляндского Сергия Страгородского и готов был закончить свою жизнь монахом. Его, собственно, и на Собор-то избрали от монастырского монашества.
И вдруг он узнает, что в Харьковской епархии съезд опять избирает его своим епархиальным архиереем. Вот это поразительный успех. Наша традиция такова, что у нас архиереев радостно встречают и еще более радостно провожают с кафедры. Чтобы архиерей, который был на кафедре, был с кафедры смещен и был опять призван на кафедру, – это высшая аттестация архиерейской добродетели. И вот такой тяжелый человек, как Антоний Храповицкий, жесткий администратор (плохой, кстати, администратор, жесткий, но плохой), харизматичнейший пастырь, яркий, обаятельнейший человек, был вновь призван на служение в епархию.
С Сергием Страгородским получилось не так. Он был одним из фаворитов на выборах в петроградские архиереи, его здесь знали и как богослова, ректор духовной академии, автор блистательной магистерской диссертации «Православное учение о спасении», многолетнейший опытнейший церковный администратор, член Синода. Для монархистов он – монархист, для либералов, в общем, – умеренный либерал. А обходит его Вениамин Казанский, викарий, которого знали прежде всего как пастыря.
Это, кстати сказать, был первый тревожный звонок будущему митрополиту Сергию. Он был известен как богослов, был известен как церковный администратор, как церковный политик, но тогда, в условиях надвигающихся гонений, Церкви были нужны какие-то другие архиереи – архиереи-пастыри. Именно таким архиереем-пастырем и оказался для Москвы Тихон Белавин, который и становится московским митрополитом.
Нетрудно предположить после этого, что на Поместном Соборе, открывшемся 16 августа 1917-го года, через два месяца после избрания на Московскую кафедру, митрополит Тихон оказывается его председателем. Почетным председателем – митрополит Киевский Владимир Богоявленский, а председателем – он. Вот так неожиданно проявивший себя в эвакуации в Москве именно как пастырь, этот епископ становится, по существу, одним из известнейших церковных иерархов, авторитет которого признается многими.
Я скажу несколько слов об этой практике избрания архиереев съездами духовенства и мирян. По существу, наверно, это правильно, хотя я не представляю, как бы это могло быть успешно реализовано, например, сейчас у нас при том уровне сознания наших мирян, да отчасти и духовенства, которое имеет место.
Но примечательно, что в тот период между февралем и октябрем 1917-го года, когда значительная часть нашего православного по формальному вероисповеданию населения занималась черным переделом земли, разваливала армию, в общем, разрушала страну, совершенно не думая о церковной жизни, малая часть наших православных христиан, тех, для которых и в этих условиях церковная жизнь была чем-то значимым, активно и осознанно участвовала и в приходских собраниях, и в благочиннических, и в епархиальных съездах. Поэтому выбирали архиереев люди вполне осознанно. И выбор их был, как правило, очень правильным.
В связи с этим не могу не провести определенного рода сравнение. Я вам говорил о соучениках патриарха Тихона будущих митрополите Антонии Храповицком и патриархе Сергии Страгородском. Они ведь тоже участвовали в этих выборах, но какими разными были обстоятельства их участия. Временное правительство вынудило Синод отправить ряд епископов на покой.
На покой был отправлен (формально как распутинец, а реально как просто правый монархист) архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий. Он, как человек не поповского, а дворянского происхождения, был не только готов со смирением вновь устремиться на епископскую кафедру, а готов был не возвращаться на нее. Ибо дворянская гордость подчас превалировала над клерикальным карьерным смирением. Он затворился в Валаамском монастыре по приглашению архиепископа Финляндского Сергия Страгородского и готов был закончить свою жизнь монахом. Его, собственно, и на Собор-то избрали от монастырского монашества.
И вдруг он узнает, что в Харьковской епархии съезд опять избирает его своим епархиальным архиереем. Вот это поразительный успех. Наша традиция такова, что у нас архиереев радостно встречают и еще более радостно провожают с кафедры. Чтобы архиерей, который был на кафедре, был с кафедры смещен и был опять призван на кафедру, – это высшая аттестация архиерейской добродетели. И вот такой тяжелый человек, как Антоний Храповицкий, жесткий администратор (плохой, кстати, администратор, жесткий, но плохой), харизматичнейший пастырь, яркий, обаятельнейший человек, был вновь призван на служение в епархию.
С Сергием Страгородским получилось не так. Он был одним из фаворитов на выборах в петроградские архиереи, его здесь знали и как богослова, ректор духовной академии, автор блистательной магистерской диссертации «Православное учение о спасении», многолетнейший опытнейший церковный администратор, член Синода. Для монархистов он – монархист, для либералов, в общем, – умеренный либерал. А обходит его Вениамин Казанский, викарий, которого знали прежде всего как пастыря.
Это, кстати сказать, был первый тревожный звонок будущему митрополиту Сергию. Он был известен как богослов, был известен как церковный администратор, как церковный политик, но тогда, в условиях надвигающихся гонений, Церкви были нужны какие-то другие архиереи – архиереи-пастыри. Именно таким архиереем-пастырем и оказался для Москвы Тихон Белавин, который и становится московским митрополитом.
Нетрудно предположить после этого, что на Поместном Соборе, открывшемся 16 августа 1917-го года, через два месяца после избрания на Московскую кафедру, митрополит Тихон оказывается его председателем. Почетным председателем – митрополит Киевский Владимир Богоявленский, а председателем – он. Вот так неожиданно проявивший себя в эвакуации в Москве именно как пастырь, этот епископ становится, по существу, одним из известнейших церковных иерархов, авторитет которого признается многими.
 Надо вам сказать, что открытие Собора сопровождалось очень большой дискуссией по вопросу о высшем церковном управлении. Число противников восстановления патриаршества неожиданно стало весьма ощутимо. Общий ажиотаж, связанный с желанием демократизировать всё и вся, неожиданно увлек в обратную сторону и многих епископов и членов Собора. Принято считать, что зловредные либеральные профессора духовных академий были главными сторонниками того, чтобы Церковь у нас управлялась коллегиально и выборно.
На самом деле тот же самый архиепископ Финляндский Сергий Страгородский стал высказываться довольно критически по поводу патриаршества в первые же недели работы Собора. И понадобилась кипучая энергия митрополита Антония, его способность убеждать, увлекать, чтобы постепенно ситуация переломилась. Но, впрочем, убедительность его выступлений, выступлений других сторонников патриаршества (например, архимандрита Илариона Троицкого, профессоров Сергия Николаевича Булгакова и Евгения Николаевича Трубецкого) подкреплялась и тем, что происходило в России.
Постепенное осознание того, что в России не только нет монарха, а нет государства, осенью 1917-го года уже пронизало всех и вся, и многие члены Собора стали задумываться о необходимости восстановить патриаршество еще и потому, что в фигуре Патриарха они видели единственное средство спасения России от того кровавого хаоса, в который она погружалась. Недолжное, наверное, обоснование для определения того, каким должно быть высшее церковное управление. Но, с другой стороны, Церковь ведь не могла игнорировать то, что страна неслась к какой-то катастрофе.
Надо сказать, что митрополит Тихон никак не проявлял себя особенно активно в дискуссиях этого рода. Да и должность председателя лишала его возможности активно себя позиционировать. Но Собор развивался в довольно живом русле, и в результате случилось так, что как раз в момент, когда на улицах Москвы начались бои между юнкерами и сторонниками большевиков, 30 октября 1917-го года, было принято решение о немедленных выборах Патриарха, решение о восстановлении патриаршества приняли за два дня до этого.
Вы помните эту процедуру. Выбрать нужно было трех кандидатов, которые имели больше половины голосов, и архиепископы Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий и митрополит Тихон Белавин, который набрал меньше их голосов, оказались теми, среди кого жребием нужно было избрать Патриарха. Это произошло как раз 31 октября 1917-го года, в день, когда в Царском Селе был убит первый погибший от рук большевиков священник протоиерей Иоанн Кочуров, которого митрополит Тихон лично знал по служению в Америке.
Я часто задумываюсь над тем, почему первым священником, убитым большевиками, стал, в общем, довольно ординарный священник, который просто тихо нес свое служение, иногда даже хочется сказать, тянул свою священническую приходскую лямку и который наконец-то на склоне лет получил такое хорошее назначение в Екатерининский собор Царского Села.
Обремененный семьей, имевший матушку, заболевшую, кстати сказать, от тяжелейших бытовых условий в Чикаго, где он служил, он наконец обрел покой, продолжавшийся в его жизни менее года, и стал первым священником, которого большевики убили только за то, что он служил молебен о прекращении междоусобной брани. Вот такое сочетание этих событий в один день: митрополит Тихон – один из кандидатов в Патриархи, а известный ему когда-то священник проливает свою кровь – первую мученическую кровь.
Ну, а далее 5 ноября 1917-го года – избрание по жребию в Храме Христа Спасителя. Трех кандидатов в Патриархи называли за их спинами самым умным (Антония), самым строгим (Арсения) и самым добрым (Тихона). И вот это то ли какой-то вызов Господу Богу, то ли наоборот – глубокое понимание воли Божией, что самый добрый оказался Патриархом в самый жестокий момент русской церковной истории.
Надо вам сказать, что открытие Собора сопровождалось очень большой дискуссией по вопросу о высшем церковном управлении. Число противников восстановления патриаршества неожиданно стало весьма ощутимо. Общий ажиотаж, связанный с желанием демократизировать всё и вся, неожиданно увлек в обратную сторону и многих епископов и членов Собора. Принято считать, что зловредные либеральные профессора духовных академий были главными сторонниками того, чтобы Церковь у нас управлялась коллегиально и выборно.
На самом деле тот же самый архиепископ Финляндский Сергий Страгородский стал высказываться довольно критически по поводу патриаршества в первые же недели работы Собора. И понадобилась кипучая энергия митрополита Антония, его способность убеждать, увлекать, чтобы постепенно ситуация переломилась. Но, впрочем, убедительность его выступлений, выступлений других сторонников патриаршества (например, архимандрита Илариона Троицкого, профессоров Сергия Николаевича Булгакова и Евгения Николаевича Трубецкого) подкреплялась и тем, что происходило в России.
Постепенное осознание того, что в России не только нет монарха, а нет государства, осенью 1917-го года уже пронизало всех и вся, и многие члены Собора стали задумываться о необходимости восстановить патриаршество еще и потому, что в фигуре Патриарха они видели единственное средство спасения России от того кровавого хаоса, в который она погружалась. Недолжное, наверное, обоснование для определения того, каким должно быть высшее церковное управление. Но, с другой стороны, Церковь ведь не могла игнорировать то, что страна неслась к какой-то катастрофе.
Надо сказать, что митрополит Тихон никак не проявлял себя особенно активно в дискуссиях этого рода. Да и должность председателя лишала его возможности активно себя позиционировать. Но Собор развивался в довольно живом русле, и в результате случилось так, что как раз в момент, когда на улицах Москвы начались бои между юнкерами и сторонниками большевиков, 30 октября 1917-го года, было принято решение о немедленных выборах Патриарха, решение о восстановлении патриаршества приняли за два дня до этого.
Вы помните эту процедуру. Выбрать нужно было трех кандидатов, которые имели больше половины голосов, и архиепископы Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий и митрополит Тихон Белавин, который набрал меньше их голосов, оказались теми, среди кого жребием нужно было избрать Патриарха. Это произошло как раз 31 октября 1917-го года, в день, когда в Царском Селе был убит первый погибший от рук большевиков священник протоиерей Иоанн Кочуров, которого митрополит Тихон лично знал по служению в Америке.
Я часто задумываюсь над тем, почему первым священником, убитым большевиками, стал, в общем, довольно ординарный священник, который просто тихо нес свое служение, иногда даже хочется сказать, тянул свою священническую приходскую лямку и который наконец-то на склоне лет получил такое хорошее назначение в Екатерининский собор Царского Села.
Обремененный семьей, имевший матушку, заболевшую, кстати сказать, от тяжелейших бытовых условий в Чикаго, где он служил, он наконец обрел покой, продолжавшийся в его жизни менее года, и стал первым священником, которого большевики убили только за то, что он служил молебен о прекращении междоусобной брани. Вот такое сочетание этих событий в один день: митрополит Тихон – один из кандидатов в Патриархи, а известный ему когда-то священник проливает свою кровь – первую мученическую кровь.
Ну, а далее 5 ноября 1917-го года – избрание по жребию в Храме Христа Спасителя. Трех кандидатов в Патриархи называли за их спинами самым умным (Антония), самым строгим (Арсения) и самым добрым (Тихона). И вот это то ли какой-то вызов Господу Богу, то ли наоборот – глубокое понимание воли Божией, что самый добрый оказался Патриархом в самый жестокий момент русской церковной истории.
 Что можно сказать об этом выборе, который увенчался 21 ноября интронизацией в Успенском соборе? Конечно, был выбран, строго говоря, самый подходящий архиерей. Что я имею в виду? Я вам напомню, что тогда на Соборе (хотя Собор и пытался в Патриархе обрести того самого иерарха, который станет новым Гермогеном, который объединит и русскую Церковь, и Россию в православном единстве) большевиков всерьез не воспринимали. Они казались авантюристами, которые очень быстро сгинут, когда соберется Учредительное собрание, против созыва которого большевики формально не возражали.
Вот отсюда это определение о правовом положении Церкви, которое будет принято на первой сессии, которое предполагало разговор с будущим государством российским в той тональности, в какой вели разговор с Временным правительством. Ведь Временное правительство было, собственно, правительством благонамереннейших русских интеллигентов, пытавшихся предложить России европейский способ правления – максимально свободный, в максимально, впрочем, опять-таки, по-русски, неподходящий момент войны, в условиях, когда российская демократия могла сохраниться только при условии, если бы она смогла защищаться от радикалов, прежде всего слева.
Но как бы то ни было, это ощущение, что Учредительное собрание, даже если оно и не восстановит православную монархию, будет строить свою политику так, как строило Временное правительство, было характерно для многих. И кто как не митрополит Тихон, теперь уже Патриарх, подходил к этому? По существу, схематично говоря, при таком развитии событий в России должны были бы установиться примерно такие же взаимоотношения между Церковью и государством, как в США. Единственное, что было бы существенным отличием, это то, что вряд ли у нас бы формально Церковь отделили от государства. И самым опытным в смысле управления Церковью в таких условиях иерархом оказывался именно патриарх Тихон.
Но это если бы Учредительное собрание не было разогнано. А большевики его разгонят, как вы знаете, в начале января 1918 года, и члены Собора, да и сам Патриарх столкнутся уже с совершенно другой реальностью. Но тогда казалось, что Церковь переживает свой очевидный успех. Тем более что 21 января 1918 года многочисленные крестные ходы, которые потянулись к Успенскому собору в день интронизации патриарха Тихона, вбирали в свои ряды и многих красногвардейцев, еще совсем недавно зверски расправлявшихся с юнкерами, а теперь готовых, так сказать, вновь крестить свой лоб, видя такую диковину, как всероссийский Патриарх.
На что бы я еще хотел обратить ваше внимание. Говорить об этом в данной аудитории сейчас было бы с моей стороны, конечно, неправильно, хотя это очень важная тема. Вот мы говорим о восстановлении патриаршества.
Но если мы посмотрим на очень важное определение о правах и обязанностях Патриарха, определение о круге дел, входящих в компетенцию Священного Синода, Высшего церковного совета, то мы должны будем признать, что права и обязанности Патриарха были не такие уж широкие. Патриарх, прежде всего, оставался правящим архиереем города Москвы, которому были даны некоторые очень незначительные дополнительные полномочия. Например, Патриарх не мог своей властью запретить священнослужение какого-нибудь епископа. Он мог только поставить этот вопрос в Синоде. Патриарх не мог заставить какого-то епископа делать в его епархии то, что тот считал не нужным. Он мог обязать его это делать, только поставив этот вопрос на заседании Синода.
И еще одна выразительная деталь, может быть, она вам кое-что объяснит. В случае, если между епископами возникал какой-то конфликт, епископы могли обратиться в Синод, где проходило уже гласное слушание их истории, и решение Синода уже становилось для них обязательным.
Но это была огласка. Однако если епископы, вступившие в конфликт между собой, обращались непосредственно к Патриарху, то без всякого публичного делопроизводства этот вопрос обсуждался ими в узком кругу, и тогда решение Патриарха по их спорному вопросу становилось для епископов обязательным.
То есть вы чувствуете, что дополнительное право Патриарха в очень определенных случаях – в случае добровольного обращения к нему двух епископов, например, – было связано с тем, будет ли у него личный авторитет. Ведь к не имеющему авторитета Патриарху и не будут обращаться, пускай лучше всё идет своим положенным чередом через Синод. А если этот личный авторитет есть, значит, возможно такого рода решение вопросов.
Что можно сказать об этом выборе, который увенчался 21 ноября интронизацией в Успенском соборе? Конечно, был выбран, строго говоря, самый подходящий архиерей. Что я имею в виду? Я вам напомню, что тогда на Соборе (хотя Собор и пытался в Патриархе обрести того самого иерарха, который станет новым Гермогеном, который объединит и русскую Церковь, и Россию в православном единстве) большевиков всерьез не воспринимали. Они казались авантюристами, которые очень быстро сгинут, когда соберется Учредительное собрание, против созыва которого большевики формально не возражали.
Вот отсюда это определение о правовом положении Церкви, которое будет принято на первой сессии, которое предполагало разговор с будущим государством российским в той тональности, в какой вели разговор с Временным правительством. Ведь Временное правительство было, собственно, правительством благонамереннейших русских интеллигентов, пытавшихся предложить России европейский способ правления – максимально свободный, в максимально, впрочем, опять-таки, по-русски, неподходящий момент войны, в условиях, когда российская демократия могла сохраниться только при условии, если бы она смогла защищаться от радикалов, прежде всего слева.
Но как бы то ни было, это ощущение, что Учредительное собрание, даже если оно и не восстановит православную монархию, будет строить свою политику так, как строило Временное правительство, было характерно для многих. И кто как не митрополит Тихон, теперь уже Патриарх, подходил к этому? По существу, схематично говоря, при таком развитии событий в России должны были бы установиться примерно такие же взаимоотношения между Церковью и государством, как в США. Единственное, что было бы существенным отличием, это то, что вряд ли у нас бы формально Церковь отделили от государства. И самым опытным в смысле управления Церковью в таких условиях иерархом оказывался именно патриарх Тихон.
Но это если бы Учредительное собрание не было разогнано. А большевики его разгонят, как вы знаете, в начале января 1918 года, и члены Собора, да и сам Патриарх столкнутся уже с совершенно другой реальностью. Но тогда казалось, что Церковь переживает свой очевидный успех. Тем более что 21 января 1918 года многочисленные крестные ходы, которые потянулись к Успенскому собору в день интронизации патриарха Тихона, вбирали в свои ряды и многих красногвардейцев, еще совсем недавно зверски расправлявшихся с юнкерами, а теперь готовых, так сказать, вновь крестить свой лоб, видя такую диковину, как всероссийский Патриарх.
На что бы я еще хотел обратить ваше внимание. Говорить об этом в данной аудитории сейчас было бы с моей стороны, конечно, неправильно, хотя это очень важная тема. Вот мы говорим о восстановлении патриаршества.
Но если мы посмотрим на очень важное определение о правах и обязанностях Патриарха, определение о круге дел, входящих в компетенцию Священного Синода, Высшего церковного совета, то мы должны будем признать, что права и обязанности Патриарха были не такие уж широкие. Патриарх, прежде всего, оставался правящим архиереем города Москвы, которому были даны некоторые очень незначительные дополнительные полномочия. Например, Патриарх не мог своей властью запретить священнослужение какого-нибудь епископа. Он мог только поставить этот вопрос в Синоде. Патриарх не мог заставить какого-то епископа делать в его епархии то, что тот считал не нужным. Он мог обязать его это делать, только поставив этот вопрос на заседании Синода.
И еще одна выразительная деталь, может быть, она вам кое-что объяснит. В случае, если между епископами возникал какой-то конфликт, епископы могли обратиться в Синод, где проходило уже гласное слушание их истории, и решение Синода уже становилось для них обязательным.
Но это была огласка. Однако если епископы, вступившие в конфликт между собой, обращались непосредственно к Патриарху, то без всякого публичного делопроизводства этот вопрос обсуждался ими в узком кругу, и тогда решение Патриарха по их спорному вопросу становилось для епископов обязательным.
То есть вы чувствуете, что дополнительное право Патриарха в очень определенных случаях – в случае добровольного обращения к нему двух епископов, например, – было связано с тем, будет ли у него личный авторитет. Ведь к не имеющему авторитета Патриарху и не будут обращаться, пускай лучше всё идет своим положенным чередом через Синод. А если этот личный авторитет есть, значит, возможно такого рода решение вопросов.
 И надо сказать, что патриарх Тихон как никто другой подходил именно к этой роли. Его личный авторитет был высок даже у людей, которые смотрели на него свысока. А таковыми были, прежде всего, митрополит Антоний Храповицкий и митрополит Арсений Стадницкий, которые, конечно же, переживали то, что случилось, и жизнь и служение которых были куда более известными и выдающимися (я сейчас не буду давать им оценки), чем у этого бывшего недавно еще епископом Виленским и Литовским Тихона.
Это очень важный момент. Патриарху было легко, в каком-то смысле. Почему легко? Основную ответственность за жизнь Церкви брал на себя Поместный Собор. В случае, когда Собор прекращал свою работу, управление Церковью осуществляли два избранных Собором коллегиальных органа: Священный синод и Высший церковный совет, в которых Патриарх только лишь председательствовал. Перед нами система, в которой Патриарх играет формально незначительную роль.
Это, на самом деле, всегда хорошо, когда первое лицо в какой-то управленческой структуре может опереться на коллегиально действующие вместе с ним органы, имеющие полномочия от высшего органа власти, то есть от Собора. Мы, правда, считаем, что лучше, когда один человек принимает все решения, тогда всё происходит быстро и так, как положено. Но Патриарха поставили в совершенно другие условия.
В этом смысле патриарх Тихон был совершенно не похож на своих предшественников – Патриархов Московской Руси, которые были полными господами в Церкви по всем вопросам, и одна только инстанция могла их смирять, это, конечно же, Государь. Ничего подобного здесь не предполагалось. Высшей инстанцией для Патриарха были не только Собор, но и постоянно действующие в межсоборный период Высший церковный совет и Священный синод, в которых он председательствовал.
Что произошло в начале 1918-го года, помимо разгона Учредительного собрания, изменившего перспективы отношений Церкви и государства? Собор прервал свою работу в начале декабря, первая сессия была завершена. Многие члены Собора разъехались по своим епархиям. Собор должен был возобновить свою работу 20 января. И вот к этому времени за полтора месяца произошли очень радикальные события. Дело не только в том, что было разогнано Учредительное собрание. И не только в том, что только что захватившие власть большевики сумели уже издать с полдюжины законов, которые не только резко ограничивали деятельность Церкви, но разрушали привычную парадигму русской церковной православной жизни.
Вы сразу все вспомните декрет о свободе совести или отделении Церкви от государства. А должен вам сказать, что был и другой декрет, вызвавший на Соборе не меньшее возмущение, – декрет, передававший государственным органам регистрацию рождения, браков, разводов и смертей.
Вы скажете: а что это такое? А это означало следующее: отныне в России законным признавался только брак, заключенный в органах государственной власти. При этом вводилась предельно упрощенная процедура расторжения брака, и можно было таким же образом расторгать и церковные браки. Масса людей устремились, наконец, освободиться от постылых супругов в эти самые новоявленные исполкомы при советах. Процедура расторжения и заключения нового брака была максимально упрощена.
По существу, эти декреты были направлены на то, чтобы реализовать один из основных замыслов догматического марксизма – ликвидировать институт семьи. Об этом до середины 1920-х годов будут рассуждать большевистские руководители. Члены Собора, среди которых были, в большинстве своем, представители потомства нашего духовенства от профессоров-канонистов до приходских священников, очень хорошо почувствовали, что этот декрет разрушает и без того не очень сильную русскую семью.
И надо сказать, что патриарх Тихон как никто другой подходил именно к этой роли. Его личный авторитет был высок даже у людей, которые смотрели на него свысока. А таковыми были, прежде всего, митрополит Антоний Храповицкий и митрополит Арсений Стадницкий, которые, конечно же, переживали то, что случилось, и жизнь и служение которых были куда более известными и выдающимися (я сейчас не буду давать им оценки), чем у этого бывшего недавно еще епископом Виленским и Литовским Тихона.
Это очень важный момент. Патриарху было легко, в каком-то смысле. Почему легко? Основную ответственность за жизнь Церкви брал на себя Поместный Собор. В случае, когда Собор прекращал свою работу, управление Церковью осуществляли два избранных Собором коллегиальных органа: Священный синод и Высший церковный совет, в которых Патриарх только лишь председательствовал. Перед нами система, в которой Патриарх играет формально незначительную роль.
Это, на самом деле, всегда хорошо, когда первое лицо в какой-то управленческой структуре может опереться на коллегиально действующие вместе с ним органы, имеющие полномочия от высшего органа власти, то есть от Собора. Мы, правда, считаем, что лучше, когда один человек принимает все решения, тогда всё происходит быстро и так, как положено. Но Патриарха поставили в совершенно другие условия.
В этом смысле патриарх Тихон был совершенно не похож на своих предшественников – Патриархов Московской Руси, которые были полными господами в Церкви по всем вопросам, и одна только инстанция могла их смирять, это, конечно же, Государь. Ничего подобного здесь не предполагалось. Высшей инстанцией для Патриарха были не только Собор, но и постоянно действующие в межсоборный период Высший церковный совет и Священный синод, в которых он председательствовал.
Что произошло в начале 1918-го года, помимо разгона Учредительного собрания, изменившего перспективы отношений Церкви и государства? Собор прервал свою работу в начале декабря, первая сессия была завершена. Многие члены Собора разъехались по своим епархиям. Собор должен был возобновить свою работу 20 января. И вот к этому времени за полтора месяца произошли очень радикальные события. Дело не только в том, что было разогнано Учредительное собрание. И не только в том, что только что захватившие власть большевики сумели уже издать с полдюжины законов, которые не только резко ограничивали деятельность Церкви, но разрушали привычную парадигму русской церковной православной жизни.
Вы сразу все вспомните декрет о свободе совести или отделении Церкви от государства. А должен вам сказать, что был и другой декрет, вызвавший на Соборе не меньшее возмущение, – декрет, передававший государственным органам регистрацию рождения, браков, разводов и смертей.
Вы скажете: а что это такое? А это означало следующее: отныне в России законным признавался только брак, заключенный в органах государственной власти. При этом вводилась предельно упрощенная процедура расторжения брака, и можно было таким же образом расторгать и церковные браки. Масса людей устремились, наконец, освободиться от постылых супругов в эти самые новоявленные исполкомы при советах. Процедура расторжения и заключения нового брака была максимально упрощена.
По существу, эти декреты были направлены на то, чтобы реализовать один из основных замыслов догматического марксизма – ликвидировать институт семьи. Об этом до середины 1920-х годов будут рассуждать большевистские руководители. Члены Собора, среди которых были, в большинстве своем, представители потомства нашего духовенства от профессоров-канонистов до приходских священников, очень хорошо почувствовали, что этот декрет разрушает и без того не очень сильную русскую семью.
 Большевики давали еще одно право на еще одно бесчестие. Не только право убивать помещиков и буржуев, не только право грабить, обворовывать их как классовых врагов, но и право не иметь семьи. Это, конечно, был очень опасный декрет. Но, повторяю, не только в этом было дело. Дело было в том, что за эти полтора месяца, что не работал Собор, в стране усилился разгул насилия и террора. Причем ужас этого насилия и террора заключался в том, что власти его всячески разжигали, подстегивали. Но творился он руками русских православных христиан, дезертировавших из вооруженных сил матросов и солдат, заполонивших собою страну.
Вдумайтесь в это. Ведь у нас в 1917-м году почти тринадцать миллионов человек было под ружьем. Кем они стали, эти люди, уставшие от войны, ощутившие вкус крови? Резервуаром сторонников большевиков, которые дали им право силой осуществлять то, о чем мечтали они многие годы, – не знать государство и творить свою черную передельскую вольницу в христианской стране.
Происходили массовые эксцессы. Причем убивали не только солдат и офицеров, пытавшихся воспрепятствовать их бегству с фронта, не только помещиков, которых сжигали с их поместьями в деревнях, не только буржуев, то есть хорошо одетых людей на городских улицах, но грабили храмы и монастыри, всё чаще происходили нападения на лиц, связанных с Церковью, и даже на представителей духовенства.
И вот накануне открытия второй сессии Собора Патриарх, уже выпустивший одно послание своей пастве, выпускает еще одно послание, в котором впервые раздается его голос, уже не как архиепископа Алеутского и Северо-Американского, умевшего очень мягко и деликатно говорить со всеми, кто был рядом с ним, – от представителей американских властей до каких-нибудь экзотических протестантских сектантов или православных эмигрантов, попавших в Америку и не узнававших в ней ничего родного, кроме Православной Церкви. Нет, это был голос Патриарха Православной Российской Церкви, государственной, первенствующей, торжествующей. Это был голос почти патриарха Гермогена. И на Соборе очередной раз ощутили, что они не ошиблись.
Я позволю себе прочитать некоторые фрагменты из этого послания, которое патриарх Тихон выпустил до созыва Собора, беря ответственность за него исключительно на себя:
Большевики давали еще одно право на еще одно бесчестие. Не только право убивать помещиков и буржуев, не только право грабить, обворовывать их как классовых врагов, но и право не иметь семьи. Это, конечно, был очень опасный декрет. Но, повторяю, не только в этом было дело. Дело было в том, что за эти полтора месяца, что не работал Собор, в стране усилился разгул насилия и террора. Причем ужас этого насилия и террора заключался в том, что власти его всячески разжигали, подстегивали. Но творился он руками русских православных христиан, дезертировавших из вооруженных сил матросов и солдат, заполонивших собою страну.
Вдумайтесь в это. Ведь у нас в 1917-м году почти тринадцать миллионов человек было под ружьем. Кем они стали, эти люди, уставшие от войны, ощутившие вкус крови? Резервуаром сторонников большевиков, которые дали им право силой осуществлять то, о чем мечтали они многие годы, – не знать государство и творить свою черную передельскую вольницу в христианской стране.
Происходили массовые эксцессы. Причем убивали не только солдат и офицеров, пытавшихся воспрепятствовать их бегству с фронта, не только помещиков, которых сжигали с их поместьями в деревнях, не только буржуев, то есть хорошо одетых людей на городских улицах, но грабили храмы и монастыри, всё чаще происходили нападения на лиц, связанных с Церковью, и даже на представителей духовенства.
И вот накануне открытия второй сессии Собора Патриарх, уже выпустивший одно послание своей пастве, выпускает еще одно послание, в котором впервые раздается его голос, уже не как архиепископа Алеутского и Северо-Американского, умевшего очень мягко и деликатно говорить со всеми, кто был рядом с ним, – от представителей американских властей до каких-нибудь экзотических протестантских сектантов или православных эмигрантов, попавших в Америку и не узнававших в ней ничего родного, кроме Православной Церкви. Нет, это был голос Патриарха Православной Российской Церкви, государственной, первенствующей, торжествующей. Это был голос почти патриарха Гермогена. И на Соборе очередной раз ощутили, что они не ошиблись.
Я позволю себе прочитать некоторые фрагменты из этого послания, которое патриарх Тихон выпустил до созыва Собора, беря ответственность за него исключительно на себя:
«Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до Нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно исполняли свой долг перед родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это – поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной. Властью, данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение».Вот эта анафема, которая вам хорошо известна. Как видите, анафема отнюдь не большевикам. Не потому, что среди большевиков не было людей православных по крещению (тот же самый Ленин и Сталин). Но прежде всего потому, что Патриарх (конечно, еще довольно плохо представлявший себе персоналии большевистского правительства) прекрасно понимал, что эти люди уже свой выбор в отношении Церкви сделали.
 Самое главное, что здесь было важно, – это понимание того, что большевики творят разрушение страны руками православных христиан. И если православные христиане (а в России было более ста миллионов православных христиан) не будут участвовать в этих деяниях, большевики исчезнут. Исчезнут так же, как они появились. Причем Патриарх, обратите внимание, надеется на то, что православные христиане, вовлекаемые в роли солдат и матросов в преступления большевиков, ощутив себя подпадающими под отлучение от Церкви, устыдятся и остановятся. Он обращается именно к ним. Но при этом не предлагает им чего-либо другого, кроме как не участвовать в делах тьмы, не участвовать в этих насилиях и убийствах.
Он не призывает к вооруженному сопротивлению большевикам. Он пишет:
Самое главное, что здесь было важно, – это понимание того, что большевики творят разрушение страны руками православных христиан. И если православные христиане (а в России было более ста миллионов православных христиан) не будут участвовать в этих деяниях, большевики исчезнут. Исчезнут так же, как они появились. Причем Патриарх, обратите внимание, надеется на то, что православные христиане, вовлекаемые в роли солдат и матросов в преступления большевиков, ощутив себя подпадающими под отлучение от Церкви, устыдятся и остановятся. Он обращается именно к ним. Но при этом не предлагает им чего-либо другого, кроме как не участвовать в делах тьмы, не участвовать в этих насилиях и убийствах.
Он не призывает к вооруженному сопротивлению большевикам. Он пишет:
«Враги Церкви захватывают власть над нею и ее достоянием силою смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной. А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания».Ну, что можно сказать об этом послании? 22 января оно будет принято Поместным Собором как соборный документ, то есть получит высший в поместной Церкви канонический статус. Так что все эти наши православные патриоты с красно-коричневой подкладкой должны бы помнить: если они – продолжатели дела Ленина и Сталина, им нужно с какой-то другой Православной Церковью иметь дело, не с Тихоновской патриаршей, потому что в ней они продолжатели анафематствованных, отлученных от Церкви злодеев, и только. Так вот, что же можно сказать об этом обращении Патриарха? Оно потрясает, ужасает. Нас сейчас, уже проживших ХХ век, это послание, мне кажется, должно оставлять в чувстве глубокой грусти по поводу того, насколько даже Патриарху не было ведомо, в какую глубокую бездну уже упала страна. Он был уверен, что в стране, где сто миллионов православных христиан, кучка большевиков обречена будет на неудачу, если хотя бы большинство этих христиан просто отстранится от них и не поддержит. Даже бороться с помощью оружия не надо, просто отстраниться – и у них не будет никакой основы. А этого не случилось. Патриарху казалось, что достаточно такого рода анафемы – анафемы, которая, в общем и целом, не должна даже способствовать кровопролитию. А ведь были на Соборе отдельные священнослужители, такие, как носивший парадоксальную фамилию Неженцев, священник Неженцев. (Вы узнали эту фамилию, это фамилия одного из ближайших к генералу Корнилову молодых офицеров, погибших в молодом возрасте, подполковника, возможно, что они были родственниками.) Священник Неженцев сказал, что нужно не Патриарха избирать, а нужно собирать земское ополчение, нужно сопротивляться злу силою, уже наступил такой момент, очень многие православные по крещению русские люди готовы идти за большевиками, и даже анафемой их уже не остановишь.
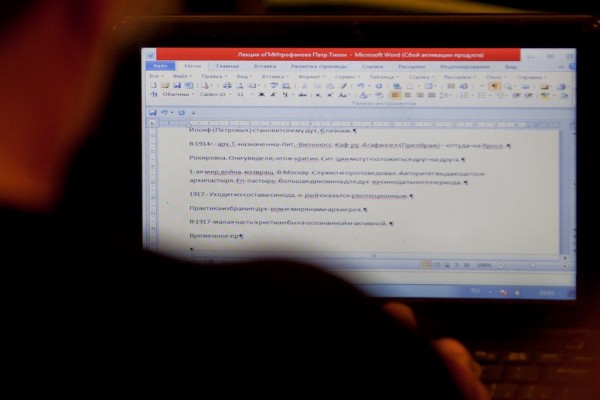 Существуют данные о том, что, впервые получив возможность причащаться по желанию, а не по обязанности (я имею в виду причащение на Страстной неделе перед Пасхой 1917-го года), военные чины нашей армии причастились примерно в количестве 10%. До этого, когда причащение было обязательным, в 1916-м году речь шла о 95-96%. Вот такой факт, он очень выразителен. Наверное, надо было встревожиться. А Патриарх, происходивший из народной православной толщи, пребывал еще в убеждении, что помочь людям, православным христианам ужаснуться тому, что они делают, вполне достаточно, пригрозив им анафемой. Безусловно, требовалось что-то другое.
Я не хочу произносить очень популярные у нас даже среди православных патриотов слова о том, что лучший и самый бескровный способ подавить революцию связан с тем, чтобы утопить её в крови самих революционеров. В принципе, так бывало в истории – вспомним Франкистскую Испанию. Но там епископы как раз призвали народ к сопротивлению. И кто был более прав – патриарх Тихон, который считал, что этого делать не нужно, или священник Неженцев?
Понимаете, я с самого начала пытаюсь поставить перед вами вопрос, который стоял и перед Патриархом, и перед многими членами Собора. Ведь они разъезжались с первой сессии, убежденные в том, что они сделали самое главное – они избрали Патриарха, они создали органы высшего церковного управления, теперь Церковь будет совершенно иначе развиваться, а потом подойдет Учредительное собрание… И не было уже ничего – ни Учредительного собрания, ни ощущения того, что Поместный Собор будет продолжать свою деятельность беспрепятственно.
Отсюда и решение, поистине на грани канонов принятое. Решение, за которым стоит очевидное чувство паники членов Собора. Да, они поддерживают анафему Патриарха как соборное решение, придают ей такой характер, 25-го января издают постановление, которое под страхом отлучения от Церкви запрещает православным христианам расторгать свои церковные браки и заключать новые в государственных органах.
Но при этом (тем более что весть о гибели почетного председателя Поместного Собора митрополита Владимира уже пришла в Москву) они предлагают Патриарху тайно назначить себе местоблюстителя с полнотой патриарших прав. Не вправе предстоятель Церкви назначать себе преемника с полнотой патриарших прав. На место его может быть избран Собором только другой предстоятель.
Но они опасались, что в новых условиях большевики могут расправиться с Патриархом, и вдруг им в голову пришла мысль: вот, мы избрали Патриарха, а с ним ведь могут расправиться еще быстрее и энергичнее, чем расправлялись с Гермогеном. Голодом-то Гермогена морили не поляки, прежде всего, а православные русские люди, служившие, сотрудничавшие с поляками, но тоже переживавшие: ну что же, святейший Патриарх, ну пойди ты вслед за нами по тому же самому пути – мы тебя и восславим, а так приходится голодом тебя морить. Примирись, опомнись.
Члены Собора сильно волновались. А если Собор будет разогнан? А если возможности вновь собраться уже не будет, то где же предстоятель Церкви? И вот канонисты, очень хорошо представлявшие себе всю небесспорность этого решения, авторитетом Собора обязывают Патриарха тайно назначить себе местоблюстителей, каждому дать грамоту и объявить на Соборе только о том, что местоблюстители назначены, а потом эти местоблюстители заявят о себе в случае, если что-то произойдет с Патриархом.
Это решение будет принято в феврале 1918-го года. Только что возложив все свои упования на новоизбранного Патриарха, члены Собора вдруг поняли, что это великое достижение Собора уязвимо в новых условиях и этот добрейший патриарх Тихон может стать еще одной жертвой уже не казавшегося им таким благочестивым и добрым русского православного народа, который на их глазах превращался в кого-то другого. Драматургия здесь была особая. А сам патриарх Тихон оказался в двусмысленном положении. Да, он нарушал каноны по благословению Поместного Собора, он выполнял его волю, но это был очень рискованный путь. Но он это сделал. И мы увидим, как потом отзовется подобного рода решение.
Существуют данные о том, что, впервые получив возможность причащаться по желанию, а не по обязанности (я имею в виду причащение на Страстной неделе перед Пасхой 1917-го года), военные чины нашей армии причастились примерно в количестве 10%. До этого, когда причащение было обязательным, в 1916-м году речь шла о 95-96%. Вот такой факт, он очень выразителен. Наверное, надо было встревожиться. А Патриарх, происходивший из народной православной толщи, пребывал еще в убеждении, что помочь людям, православным христианам ужаснуться тому, что они делают, вполне достаточно, пригрозив им анафемой. Безусловно, требовалось что-то другое.
Я не хочу произносить очень популярные у нас даже среди православных патриотов слова о том, что лучший и самый бескровный способ подавить революцию связан с тем, чтобы утопить её в крови самих революционеров. В принципе, так бывало в истории – вспомним Франкистскую Испанию. Но там епископы как раз призвали народ к сопротивлению. И кто был более прав – патриарх Тихон, который считал, что этого делать не нужно, или священник Неженцев?
Понимаете, я с самого начала пытаюсь поставить перед вами вопрос, который стоял и перед Патриархом, и перед многими членами Собора. Ведь они разъезжались с первой сессии, убежденные в том, что они сделали самое главное – они избрали Патриарха, они создали органы высшего церковного управления, теперь Церковь будет совершенно иначе развиваться, а потом подойдет Учредительное собрание… И не было уже ничего – ни Учредительного собрания, ни ощущения того, что Поместный Собор будет продолжать свою деятельность беспрепятственно.
Отсюда и решение, поистине на грани канонов принятое. Решение, за которым стоит очевидное чувство паники членов Собора. Да, они поддерживают анафему Патриарха как соборное решение, придают ей такой характер, 25-го января издают постановление, которое под страхом отлучения от Церкви запрещает православным христианам расторгать свои церковные браки и заключать новые в государственных органах.
Но при этом (тем более что весть о гибели почетного председателя Поместного Собора митрополита Владимира уже пришла в Москву) они предлагают Патриарху тайно назначить себе местоблюстителя с полнотой патриарших прав. Не вправе предстоятель Церкви назначать себе преемника с полнотой патриарших прав. На место его может быть избран Собором только другой предстоятель.
Но они опасались, что в новых условиях большевики могут расправиться с Патриархом, и вдруг им в голову пришла мысль: вот, мы избрали Патриарха, а с ним ведь могут расправиться еще быстрее и энергичнее, чем расправлялись с Гермогеном. Голодом-то Гермогена морили не поляки, прежде всего, а православные русские люди, служившие, сотрудничавшие с поляками, но тоже переживавшие: ну что же, святейший Патриарх, ну пойди ты вслед за нами по тому же самому пути – мы тебя и восславим, а так приходится голодом тебя морить. Примирись, опомнись.
Члены Собора сильно волновались. А если Собор будет разогнан? А если возможности вновь собраться уже не будет, то где же предстоятель Церкви? И вот канонисты, очень хорошо представлявшие себе всю небесспорность этого решения, авторитетом Собора обязывают Патриарха тайно назначить себе местоблюстителей, каждому дать грамоту и объявить на Соборе только о том, что местоблюстители назначены, а потом эти местоблюстители заявят о себе в случае, если что-то произойдет с Патриархом.
Это решение будет принято в феврале 1918-го года. Только что возложив все свои упования на новоизбранного Патриарха, члены Собора вдруг поняли, что это великое достижение Собора уязвимо в новых условиях и этот добрейший патриарх Тихон может стать еще одной жертвой уже не казавшегося им таким благочестивым и добрым русского православного народа, который на их глазах превращался в кого-то другого. Драматургия здесь была особая. А сам патриарх Тихон оказался в двусмысленном положении. Да, он нарушал каноны по благословению Поместного Собора, он выполнял его волю, но это был очень рискованный путь. Но он это сделал. И мы увидим, как потом отзовется подобного рода решение.
 Далее происходит эпизод, который тоже можно трактовать по-разному. Группа членов Собора, преимущественно миряне, решила в марте 1918-го года отправиться на юг, где действовала Добровольческая армия. Это был как бы альтернативный большевистскому центр власти. Они просили Патриарха передать письменное благословение вождям Белого движения – генералам Корнилову, Алексееву. Патриарх отказался, аргументировав это тем, что Церкви не должно в надвигающейся на русскую землю междоусобной брани так определенно принимать чью-то сторону.
Вот как объяснить эту позицию Патриарха? Гражданская война выразительно продемонстрирует всем, что поражение белых стало поражением не только белых, а поражением и России, поражением Русской Церкви. И не только потому, что белые защищали Церковь от красного террора, но еще и потому, что белые, которые, как мы с вами знаем, были всегда в ничтожном меньшинстве по сравнению с красными, представляют собой ту часть русского народа, которая, далеко не всегда руководствуясь религиозной мотивацией, готова была защищать страну от разрушения, от гибели, от извращения её исторического пути этой страшной большевистской утопией. Таких людей окажется мало.
Конечно, виновата в этом Церковь. Не так она, видимо, воспитывала своих пасомых. Но обозначить свою позицию в отношении тех и других разве не должно было? Тем более сейчас, когда большевики уже проявили себя в значительной мере. Патриарх колеблется. Рассуждения о том, что Патриарху хотелось благословлять монархистов, а монархистов во главе Белого движения тогда не было, это всё пустые слова. Речь идет о чем-то более значимом, более глубоком. Патриарх не мог вместить в себя, что православная Россия оказалась в ситуации, когда одни православные будут убивать других православных.
И действительно, мы должны отдавать себе отчет в том, что то, что происходило тогда в России, для многих было совершенно неожиданным. Даже многие героические смерти той поры, вы знаете, будут чем? Результатом того, что люди так и не поймут в полной мере, что случилось, они не успеют испугаться и погибнут достойно. Нам ли с вами этого не знать, потомкам тех, кто знает, что может происходить в нашей стране и какой может быть террор в нашей стране.
Мы уже заведомо рождаемся с генами трусости и конформизма на фоне тех, кто жил тогда. А Патриарх вдруг, разочаровав военно-политически активных членов Собора, не выдерживает сам и пишет 18 марта 1918-го года послание, в котором обрушивается на Брестский мир. Уж можно, вроде, было бы обойтись без этого. Мир заключало самозваное большевистское правительство. Всем было очевидно лицемерие обеих сторон. Даже с немецкой стороны возникало чувство отвращения от тех, с кем они вели переговоры. Можно было не заметить, можно было не идти на обострение. Но это вызывало возмущение очень многих.
Вы понимаете, вот можно сейчас сказать о Патриархе: вот Патриарх такой надмирный, он решил уберечь Церковь от позиционирования себя на той или иной стороне в надвигающейся гражданской войне. Как это правильно, Церковь выше политики. А с другой стороны, Церковь выше политиканства должна быть.
Но что такое политика? Это составная часть нашей жизни. И когда Патриарх, как многие русские патриоты (в хорошем смысле слова, в полном смысле слова), с возмущением реагирует на Брестский мир, он остается архипастырем. Это нормально, когда Церковь по какому-то общественно-политическому, внешнеполитическому вопросу вдруг высказывается со всей полнотой своей возмущенной совести.
Далее происходит эпизод, который тоже можно трактовать по-разному. Группа членов Собора, преимущественно миряне, решила в марте 1918-го года отправиться на юг, где действовала Добровольческая армия. Это был как бы альтернативный большевистскому центр власти. Они просили Патриарха передать письменное благословение вождям Белого движения – генералам Корнилову, Алексееву. Патриарх отказался, аргументировав это тем, что Церкви не должно в надвигающейся на русскую землю междоусобной брани так определенно принимать чью-то сторону.
Вот как объяснить эту позицию Патриарха? Гражданская война выразительно продемонстрирует всем, что поражение белых стало поражением не только белых, а поражением и России, поражением Русской Церкви. И не только потому, что белые защищали Церковь от красного террора, но еще и потому, что белые, которые, как мы с вами знаем, были всегда в ничтожном меньшинстве по сравнению с красными, представляют собой ту часть русского народа, которая, далеко не всегда руководствуясь религиозной мотивацией, готова была защищать страну от разрушения, от гибели, от извращения её исторического пути этой страшной большевистской утопией. Таких людей окажется мало.
Конечно, виновата в этом Церковь. Не так она, видимо, воспитывала своих пасомых. Но обозначить свою позицию в отношении тех и других разве не должно было? Тем более сейчас, когда большевики уже проявили себя в значительной мере. Патриарх колеблется. Рассуждения о том, что Патриарху хотелось благословлять монархистов, а монархистов во главе Белого движения тогда не было, это всё пустые слова. Речь идет о чем-то более значимом, более глубоком. Патриарх не мог вместить в себя, что православная Россия оказалась в ситуации, когда одни православные будут убивать других православных.
И действительно, мы должны отдавать себе отчет в том, что то, что происходило тогда в России, для многих было совершенно неожиданным. Даже многие героические смерти той поры, вы знаете, будут чем? Результатом того, что люди так и не поймут в полной мере, что случилось, они не успеют испугаться и погибнут достойно. Нам ли с вами этого не знать, потомкам тех, кто знает, что может происходить в нашей стране и какой может быть террор в нашей стране.
Мы уже заведомо рождаемся с генами трусости и конформизма на фоне тех, кто жил тогда. А Патриарх вдруг, разочаровав военно-политически активных членов Собора, не выдерживает сам и пишет 18 марта 1918-го года послание, в котором обрушивается на Брестский мир. Уж можно, вроде, было бы обойтись без этого. Мир заключало самозваное большевистское правительство. Всем было очевидно лицемерие обеих сторон. Даже с немецкой стороны возникало чувство отвращения от тех, с кем они вели переговоры. Можно было не заметить, можно было не идти на обострение. Но это вызывало возмущение очень многих.
Вы понимаете, вот можно сейчас сказать о Патриархе: вот Патриарх такой надмирный, он решил уберечь Церковь от позиционирования себя на той или иной стороне в надвигающейся гражданской войне. Как это правильно, Церковь выше политики. А с другой стороны, Церковь выше политиканства должна быть.
Но что такое политика? Это составная часть нашей жизни. И когда Патриарх, как многие русские патриоты (в хорошем смысле слова, в полном смысле слова), с возмущением реагирует на Брестский мир, он остается архипастырем. Это нормально, когда Церковь по какому-то общественно-политическому, внешнеполитическому вопросу вдруг высказывается со всей полнотой своей возмущенной совести.
 Я хотел бы закончить короткой цитатой из этого послания:
Я хотел бы закончить короткой цитатой из этого послания:
«Святая Православная Церковь, искони помогавшая русскому народу собирать и возвеличивать государство русское, не может оставаться равнодушной при виде его гибели и разложения. Этот мир, подписанный от имени русского народа, не приведет к братскому сожительству народов. В нем нет залогов успокоения и примирения, в нем посеяны семена злобы и человеконенавистничества. В нем зародыши новых войн и зол для всего человечества».Ну это прямо как политический прогноз относительно Второй мировой войны. Но главное здесь другое. Тут Патриарх поддается чувству возмущения и идет в политику. Я хочу подчеркнуть, что трагедия Патриарха заключается именно в том, что он оказался в реальности, совершенно не знакомой ни ему, ни многим его сподвижникам, ни многим его современникам. И он, как живой, совестливый человек, а не как благочестивый сверхчеловек, искал пути. В этом его величие. Как величественно выглядят и вскоре написанные постановления Собора о причислении святителей Софрония Иркутского и Иосифа Астраханского, жертв бунтовщиков Стеньки Разина, к лику святых. Ну и, пожалуй, завершу я всё-таки Собором. Завершение второй сессии Собора привело к тому, что опять-таки наступил перерыв, во время которого реальность проступила особенно выразительно. Летом 1918-го года в стране повсеместно происходили убийства духовенства. в том числе епископов. Причем в самых разных епархиях. Объединяло их только одно – это были те епархии, которые находились на территории, контролируемой большевиками. И здесь Патриарх отзывается, в том числе, и на политику. Узнав об официальном заявлении о расстреле императора Николая Второго, он благословляет архипастырей и пастырей служить панихиды об убиенном Государе как о Государе, теперь уже лучше понимая, чем это может быть чревато для многих из них, в том числе и для него самого. Хотя на Соборе некоторые склонны были выступать иначе: будем молиться келейно, будем молиться, как о частном лице, о боярине Николае, и не более того. Но нет, Патриарх в данном случае позиционирует себя вполне определенно, тем самым подчеркивая, что при всех своих исторических недостатках российская монархия для Русской Церкви продолжает оставаться институтом, который сыграл определенную роль, значимую роль в церковной жизни, и гибель последнего государя (отнюдь не идеального, отнюдь не совершенного; вообще надо поражаться, когда в дискуссии на Соборе члены Собора критиковали Государя, несмотря на то что он был уже убит) обязывает Церковь не отмежевываться от тех, кто помогал Церкви, пусть не всегда хорошо, кто созидал Церковь, пусть не всегда успешно, и кто сейчас гоним. Поместный Собор будет разогнан большевиками в сентябре 1918-го года. И Патриарх останется с Синодом и Высшим церковным советом один на один с богоборческим левиафаном, употребим это модное сейчас слово. И именно тогда, когда уже Собора не будет, когда Собор будет разогнан, Патриарх напишет свое самое политизированное, самое резкое послание, обращенное уже к самим большевикам. Это, вероятно, должно было ознаменовать новый, окончательный этап его деятельности, который должен будет привести его к мученическому венцу. Но всё окажется гораздо противоречивей и сложнее. И если бы на этом послании всё и закончилось, как был бы целен и прекрасен путь, по которому пойдет Патриарх! Но, увы, не закончилось, Патриарху еще предстояло нести на себе бремя не своих только немощей, а, прежде всего, немощей своих пасомых, которые, по существу, весь период его оставшегося служения будут предавать его на разных уровнях. Послание 26 октября 1918-го года – это тот документ, с которого мы начнем наш завтрашний разговор.
 Я понимаю, что, может быть, вы уже устали, и, в общем-то, я несколько медленней вам свое повествование, так сказать, возглашал, чем хотел. Наверное, всё равно остались какие-то неясные темы. И вот, имея в виду тот период, который мы сегодня рассмотрели, период от начала служения патриарха Тихона до конца 1918-го года, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте.
Я понимаю, что, может быть, вы уже устали, и, в общем-то, я несколько медленней вам свое повествование, так сказать, возглашал, чем хотел. Наверное, всё равно остались какие-то неясные темы. И вот, имея в виду тот период, который мы сегодня рассмотрели, период от начала служения патриарха Тихона до конца 1918-го года, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте.
Фото: Мария Темнова
Православие и мир










