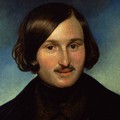26 февраля 2019 года в Книжной гостиной состоялся круглый стол на тему «Архиепископ Михаил (Мудьюгин) как прообраз современного теолога», в котором приняли участие первый проректор протоиерей Василий Стойков, протоиерей Георгий Митрофанов, протоиерей Константин Костромин, священник Дмитрий Лушников, священник Игорь Иванов и профессор Дмитрий Викторович Шмонин, а также учащиеся Академии и гости Книжной гостиной. В начале встречи выступил отец Константин Костромин, отметив, что память об архиепископе Михаиле (Мудьюгине) живет в петербургской культурной и церковной среде. Так, с 2006 года постоянно служатся панихиды в день его кончины. О владыке Михаиле издаются книги, в том числе и в Издательстве СПбДА. Характерно то, что владыка Михаил был не просто священнослужителем, но и публиковавшимся церковным ученым (причем еще в советское время), имевшим свой взгляд и на светские, и на церковные явления, что также отражалось в его деятельности.
В начале встречи выступил отец Константин Костромин, отметив, что память об архиепископе Михаиле (Мудьюгине) живет в петербургской культурной и церковной среде. Так, с 2006 года постоянно служатся панихиды в день его кончины. О владыке Михаиле издаются книги, в том числе и в Издательстве СПбДА. Характерно то, что владыка Михаил был не просто священнослужителем, но и публиковавшимся церковным ученым (причем еще в советское время), имевшим свой взгляд и на светские, и на церковные явления, что также отражалось в его деятельности.
Затем отец Константин обозначил ключевой вопрос встречи: «В чем владыка Михаил может послужить примером современного теолога?» или «Насколько современное богословие имеет определенные моменты схожести с богословием середины XX века»?
Начиная дискуссию, отец Игорь Иванов заметил, что критерием схожести может быть феномен «социального» или «социалистического», то есть вопросы обращенности к роли Церкви, регулирующей и формирующей социальную жизнь. Впрочем, говоря о XX веке, приходится учитывать и наличие цензуры (внешней и внутренней) в церковной науке в СССР и относительную свободу мысли в русском богословии за рубежом. То есть различие пролегает в специфике дискурса как советской и эмигрантской, так и церковной и светской науки, что так или иначе влияет на конкретные условия существования церковного ученого и его мысли. В ситуации с владыкой Михаилом речь также может идти в контексте социальных вопросов богословия. И несмотря на то, что ныне в России идеология социализма не так приоритетна, как ранее, для нас установки «православного социализма» могут быть вполне актуальными в контексте выработки «социального идеала», который всегда существовал в христианской цивилизации. Напоминание о нем (а также об аристократизме человеческого духа и разума) – одна из задач современного образования и теологии педагогики. Затем слово взял отец Дмитрий Лушников, подтвердив, что социология религии у владыки Михаила была тесно связана с задачами апологетического богословия. В частности, владыка Михаил подчеркивал, что: 1) противоречие между религией и наукой – мнимое; 2) реальное же противоречие это – конфликт мировоззрений: религиозного и атеистического. Иными словами, диалог Церкви и общества может пролегать в сфере наработок именно основного богословия. И здесь мысли владыки Михаила также оказываются современными и востребованными.
Затем слово взял отец Дмитрий Лушников, подтвердив, что социология религии у владыки Михаила была тесно связана с задачами апологетического богословия. В частности, владыка Михаил подчеркивал, что: 1) противоречие между религией и наукой – мнимое; 2) реальное же противоречие это – конфликт мировоззрений: религиозного и атеистического. Иными словами, диалог Церкви и общества может пролегать в сфере наработок именно основного богословия. И здесь мысли владыки Михаила также оказываются современными и востребованными.
Далее, говоря о специфике ситуации «эмиграции» и «цензуры» отец Константин заметил, что вряд ли можно противопоставлять богословие эмиграции и внутренне неподцензурное «эмигрирование», например, в Древнюю Русь, как это было у А. М. Панченко; или же трудно считать следствием работы «внутреннего цензора» упоминание цитат из сочинений В. И. Ленина владыкой Михаилом для иллюстрации своих научных выводов, что скорее было вполне свободным действием. В свою очередь, отец Георгий Митрофанов сделал акцент на том, что для нас, возможно, сама личность архиепископа Михаила (Мудьюгина) может быть гораздо интересней, нежели его сочинения. Ведь в силу обстоятельств у советских богословов был все-таки некий «дилетантизм» по сравнению с учеными дореволюционного времени. Биография владыки свидетельствует о влиянии разносторонних факторов на формирование его личности. Так, он – сын статского советника – прошел Рабфак, получив техническое образования, но при этом стремился к гуманитарному знанию и, владея иностранными языками, имел некий доступ к западной литературе. Но как епископ – епархиальный архиерей – был обречен на сотрудничество с той властью, которую он на дух не переносил, но порой встречал от нее большее понимание, нежели от своих собратьев по вере. В этом проявилась реальная трагедия этой личности, вот поэтому для нас она интереснее и важнее богословских трудов, ограниченных условиями эпохи Можно прямо сказать, что научное творчество владыки Михаила было порождено культурным, научным, социальным и богословским «безвременьем». И он был самоучкой, хоть и представлял собой типичный образ русского «архиерея-интеллигента». А если вспомнить его уход в музыку, то разве это не было попыткой сохранить и реализовать свою свободу? Таким образом, владыка Михаил не может быть прообразом современного теолога (со всеми необходимыми знаниями и компетенциями), так как для того, чтобы таковым стать, ему нужны были бы другие жизненные и социальные условия.
В свою очередь, отец Георгий Митрофанов сделал акцент на том, что для нас, возможно, сама личность архиепископа Михаила (Мудьюгина) может быть гораздо интересней, нежели его сочинения. Ведь в силу обстоятельств у советских богословов был все-таки некий «дилетантизм» по сравнению с учеными дореволюционного времени. Биография владыки свидетельствует о влиянии разносторонних факторов на формирование его личности. Так, он – сын статского советника – прошел Рабфак, получив техническое образования, но при этом стремился к гуманитарному знанию и, владея иностранными языками, имел некий доступ к западной литературе. Но как епископ – епархиальный архиерей – был обречен на сотрудничество с той властью, которую он на дух не переносил, но порой встречал от нее большее понимание, нежели от своих собратьев по вере. В этом проявилась реальная трагедия этой личности, вот поэтому для нас она интереснее и важнее богословских трудов, ограниченных условиями эпохи Можно прямо сказать, что научное творчество владыки Михаила было порождено культурным, научным, социальным и богословским «безвременьем». И он был самоучкой, хоть и представлял собой типичный образ русского «архиерея-интеллигента». А если вспомнить его уход в музыку, то разве это не было попыткой сохранить и реализовать свою свободу? Таким образом, владыка Михаил не может быть прообразом современного теолога (со всеми необходимыми знаниями и компетенциями), так как для того, чтобы таковым стать, ему нужны были бы другие жизненные и социальные условия.
На это отец Дмитрий Лушников заметил, что здесь речь, скорее всего, идет о «церковной и богословской культуре», которая была у владыки Михаила, как стремление быть понятным и как намерение излагать свою веру современным языком – и это вполне адекватно в контексте задач основного богословия. При этом характерно, что сугубо научный (профессиональный) подход в основном богословии может привести к своего рода богословской деградации, когда ученый вынужден оглядываться на современные научные теории, например, оглядки на дарвинизм и эволюционизм у Н. А. Малахова, который был последним дореволюционным представителем петербургской школы основного богословия. То есть можно сказать и так: по сравнению с Н. А. Малаховым у владыки Михаила было некое возрождение и обновление основного богословия, поскольку он не считал для себя необходимым учитывать без должной критики веяния секулярной науки.
На это отец Георгий ответил, что, в самом деле, если говорить о прообразе, то владыка Михаил являл собой пример тезиса: «священник должен быть мыслящим человеком». С этим согласились все присутствующие.
После дискуссии один из гостей задал вопрос: давал ли владыка Михаил какую-нибудь оценку зарубежному богословию?
На вопрос ответил отец Георгий, заметив, что, хотя клеймо «экумениста» и «либерала», равно как и «протестантствующего богослова» было на владыке Михаиле, это говорит именно о том, что он был хорошо знаком с зарубежным богословием. Он был открытым к богословию как таковому. Единственная сфера, где возможен экуменизм, это собственно и есть область основного богословия. А пастырски-апологетическая сила слов владыки Михаила выражалась в том, что он живо и естественно реагировал на происходящее, хотя, конечно, были и моменты внутреннего цензурирования. Затем, взяв слово, ситуацию прокомментировал отец Василий Стойков: владыка Михаил был человеком незаурядным, большой эрудиции. Очень важно важно сказать о его участии в конференциях, собеседованиях и переговорах с инославными церквями. Он живо реагировал, когда был с чем-то согласен или же нет. Он не имел систематического образования, но хорошо знал Св. Писание, сочинения св. отцов и дореволюционные богословские труды. Также он хорошо знал иностранные языки: английский, немецкий и французский. Неплохо владел латынью. Однажды, при встрече с католическим кардиналом не оказалось на месте переводчика, и в итоге переводить на слух с латыни стал владыка Михаил…
Затем, взяв слово, ситуацию прокомментировал отец Василий Стойков: владыка Михаил был человеком незаурядным, большой эрудиции. Очень важно важно сказать о его участии в конференциях, собеседованиях и переговорах с инославными церквями. Он живо реагировал, когда был с чем-то согласен или же нет. Он не имел систематического образования, но хорошо знал Св. Писание, сочинения св. отцов и дореволюционные богословские труды. Также он хорошо знал иностранные языки: английский, немецкий и французский. Неплохо владел латынью. Однажды, при встрече с католическим кардиналом не оказалось на месте переводчика, и в итоге переводить на слух с латыни стал владыка Михаил… Далее в разговор вступил профессор Дмитрий Викторович Шмонин, подчеркнув, что такие фигуры как архиепископ Михаил – это пример того, как можно использовать возможности, доступные человеку, и об этом должны помнить учащиеся сейчас. В этой связи, при усердии, активном и творческом подходе в наших силах сделать так, что основное богословие сможет зазвучать по-новому. Основываясь на этом тезисе, Дмитрий Викторович сделал свой доклад на тему «Теология в трехмерном пространстве науки».
Далее в разговор вступил профессор Дмитрий Викторович Шмонин, подчеркнув, что такие фигуры как архиепископ Михаил – это пример того, как можно использовать возможности, доступные человеку, и об этом должны помнить учащиеся сейчас. В этой связи, при усердии, активном и творческом подходе в наших силах сделать так, что основное богословие сможет зазвучать по-новому. Основываясь на этом тезисе, Дмитрий Викторович сделал свой доклад на тему «Теология в трехмерном пространстве науки».
В частности, профессор сказал, что, как только ученые начинали считать, что им теология не нужна, им сразу же приходилось искать некие философские суррогаты для замещения этой сферы. При этом, если говорить о сравнении теологии, философии и науки, важно отметить, что теология и наука – аксиоматические сферы, в отличие от философии, которая, скорее всего, является областью интеллектуального творчества, не претендуя на точное знание. Таким образом, напрашивается вопрос: если философия не может выступать в качестве равноправного партнера в диалоге с наукой, то нужна ли для этого «новая теология», обеспечивающая некую «стержневизацию» (термин Б. М. Кедрова).
После доклада отец Константин заметил: не есть ли в этом встраивании теологии в систему научных дисциплин своего рода имитация «новой» надстройки над базисом? Хотя, конечно, понятно, что речь здесь идет о многомерности теологического дискурса: от метафизической и мистической сферы – до научно-рациональной систематизации объективного теологического знания.
Дмитрий Викторович пояснил, что да, имеют место быть два момента: с одной стороны светские ученые могут попытаться «протащить» теологию как «новую идеологию», а с другой стороны могут обвинить в таковой попытке церковных ученых. Чтобы этого избежать, нужно несомненно заботиться о качестве богословского образования: кто учит и чему учит.
Эту мысль так прокомментировал отец Георгий Митрофанов:
«Как говорил протоиерей Александр Шмеман, «идеологизм» в Церкви опасен, как проявляющийся при отсутствии живого религиозного опыта. В этом контексте образ владыки Михаила (Мудьюгина) также весьма современен, поскольку владыка обращался к аудитории на ее языке, донося ей живую мысль о Христе и Церкви».
В завершение круглого стола прозвучал доклад магистранта Николая Тарнакина на тему: «Критика архиепископом Михаилом (Мудьюгиным) «богословского либерализма» Ганса Кюнга». В нем было рассказано о том, в чем именно «новое богословие священства» Г. Кюнга расходилось с Преданием и учением Церкви, и о том, как отреагировал на него владыка Михаил с позиций православной экклесиологии.
Круглый стол проходил в обстановке традиционного ученого чаепития.
Пресс-служба СПбДА